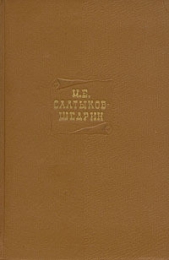Том 6. Публицистика. Воспоминания

Том 6. Публицистика. Воспоминания читать книгу онлайн
Имя Ивана Бунина (1870–1953) — одного из проникновенных, трагических классиков русской литературы, почетного академика изящной словесности, лауреата Нобелевской премии (1993) — известно во всем мире.
В шестой том включено философско-публицистическое сочинение писателя — «Освобождение Толстого», воспоминания о Чехове, мемуарные очерки из книги «Воспоминания». Впервые в советское время публикуется большой пласт Дневников Бунина. В том вошли также избранные статьи и выступления.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не советую, — она совершенно неинтересна. И притом необыкновенно бестолкова. Познакомившись со мной, стала хвалить твои стихи в «Неделе», приписывая их мне. Я говорю: «Покорно благодарю, но только это не мои стихи, а моего младшего брата». Не понимает: «Да, да, а все-таки вы не скромничайте, — стихи ваши мне очень понравились…» Я еще раз говорю, что это не мои стихи, а твои, — опять не понимает!
Я, конечно, все-таки пошел. Пришел, робко позвонил, попросил горничную доложить, стою и с трепетом жду в прихожей, примут ли? Прихожая большая, сумрачная, тихая. Вышел рыжий господин в толстых золотых очках, — профессор, муж писательницы, — строго и недоуменно взглянул на меня, надел пальто, шляпу, взял трость с серебряным набалдашником и молча вышел. А затем появилась горничная и почему-то очень поспешно и даже как будто радостно пригласила меня войти в гостиную, а из гостиной раздался еще более поспешный и радостный, слегка шепелявый голос какой-то маленькой старушки:
— Милости прошу, милости прошу!
Точно ли она была старушка? Ничуть — ей было, я думаю, лет сорок пять, не более. Помню, однако, именно старушку, очень милую, с испуганным взором, видимо, чрезвычайно польщенную, что к ней явился поклонник. Уж на что я был смущен, а все-таки не мог не заметить, что она смущена еще более. Она даже не могла удержать счастливой и растерянной улыбки.
— Так, так, — бормотала она. — Так вы, значит, читали меня? Как это приятно, как мило с вашей стороны! А я вот читала стихи вашего брата…
Я мягко, но очень настойчиво повторил то самое, что уже говорил ей брат: это не его стихи. Но бестолковость ее, видимо, не имела предела. Она нежно улыбнулась и опять закивала головой:
— Да, да, ваш брат прекрасно пишет! И какая удача: уже попал в «Неделю»!
Мы в молодости были вообще очень скромны. <…>
Лет двадцати я в первый раз попал в Москву и решил воспользоваться случаем хоть на минуту заглянуть в литературный мир. Заглянуть было трудно, — пойти к кому-нибудь из известных писателей я стеснялся; спросят: что вам угодно, молодой человек? — и что я тогда отвечу? Подумав, я решил ограничиться посещением редакции «Русской мысли». Но и тут мне не повезло. Шел я, конечно, не очень спокойно, однако вошел в прихожую довольно смело и даже излишне громко предложил слуге передать мою визитную карточку «господину редактору», как вдруг из приемной почти выбежал прямо на меня какой-то бородатый, плотный господин: в поднятой руке у него торчало перо, поднятые ноздри зияли, очки блестели грозно и в то же время испуганно.
— Стихи? — крикнул он, не давши мне даже слова вымолвить, — и замотал на меня своими обеими короткими руками, точно ластами: — Нет, нет, у нас запас стихов на целых девять лет!
Почему запаслась тогда «Русская мысль» стихами на девять лет, а не на десять, например, до сих пор не понимаю.
В Москве была лавка горбатого старика-букиниста. Помню: зима, лавка ледяная, пар от дыхания. Сидя на корточках в углу, перед грудой сваленных на полу книг, неловко роюсь в них, чувствуя на своей спине острый взгляд хозяина, сидящего в старом кресле и отрывисто отхлебывающего из стакана кипяток, жидкий чай.
— А вы что ж, тоже, значит, пишете, молодой человек?
— Пишу…
— И что ж, уж печатались?
— Да, немного…
— А где именно, позвольте спросить?
— В «Книжках Недели»… в «Вестнике Европы»…
— Стихи, разумеется?
— Да, стихи…
— Что ж, и стихи неплохо. Но только и тут надо порядочно головой поработать. Надо, собственно говоря, в жертву себя принести. Читали ли вы «Тюлистан» Саади? Я вам эту книжечку подарю на память. В ней есть истинно золотые слова. Вы же должны особенно запомнить следующие: «У всякого клада лежит стерегущий оный клад стоглавый змей». Это надо хорошенько понять. И пусть это и будет вам моим напутствием на литературном поприще. Писатель пошел теперь ничтожный. А почему? Он думает, что клады берутся голыми руками и с превеликой легкостью. Ан нет. Тут борьба не на живот, а на смерть. Вечная и бесконечная, до гробовой доски. И знаете, кто высказал эту мысль и именно в связи с вышеприведенными словами Саади? Сам Александр Сергеич Пушкин. Слышал же я это все от букиниста Богомолова, его современника и приятеля. Торговал с ларька у Лубянской стены…
В первый свой приезд в Москву я познакомился только с московскими поэтами-«самоучками».
Это был жалкий трогательный народ. Бедность и редкая одержимость в смысле любви к литературе. Воспевали они, конечно, больше всего эту бедность, горько оплакивали свою долю, несправедливость, царящую в мире… Один с горечью восклицал:
Таких поэтов было несметное количество, и о других, кажется, и слуху не было. Потом сразу разразилась революция: Брюсов, Коневской, Александр Добролюбов…
Справедливость требует упомянуть еще Емельянова-Коханского. Это он первый поразил Москву: выпустил в один прекрасный день книгу своих стихов, посвященных самому себе и Клеопатре, — так на ней и было напечатано: «Посвящается Мне и египетской царице Клеопатре» — а затем самолично появился на Тверском бульваре: в подштанниках, в бурке и папахе, в черных очках и с длинными собачьими когтями, привязанными к пальцам правой руки. Конечно, его сейчас же убрали с бульвара, увели в полицию, но все равно: дело было сделано, слава первого русского символиста прогремела по всей Москве. Все прочие пришли уже позднее — так сказать, на готовое. <…>
До девяносто четвертого года я не видел ни одного настоящего писателя. Зато начались мои встречи с ними не более, не менее, как с Толстого. Я увидел его впервые в январе девяносто четвертого года. И с того времени литературные знакомства мои стали быстро увеличиваться. Через год после того я поехал в Петербург и познакомился там с Михайловским, Кривенко, то есть с редакцией «Русского богатства», уже печатавшего тогда мои первые рассказы, побывал у поэта Жемчужникова и даже видел живого Григоровича, а приехав из Петербурга в Москву, сделал еще много знакомств: с Златовратским, Эртелем, Чеховым, Бальмонтом, Брюсовым, Емельяновым-Коханским, Коневским, Добролюбовым, Лохвицкой… Смесь вышла удивительная. Я увидел сразу целых четыре литературных эпохи: с одной стороны — Григорович, Жемчужников, Толстой; с другой — редакция «Русского богатства», Златовратский; с третьей — Эртель, Чехов; а с четвертой — те, которые, по слову Мережковского, уже «преступали все законы, нарушали все черты».
Все это повело к тому, что как-то сразу связалась с тех пор моя жизнь с жизнью литературной среды, а вскоре — во второй приезд в Петербург — эта связь еще более упрочилась, круг моих литературных знакомств и впечатлений еще более расширился. Тут я узнал еще много новых лип: познакомился с некоторыми молодыми поэтами из плеяды Фофанова, с Сологубом, с редакцией «Современного мира», иначе говоря, с домом А. А. Давыдовой, издательницы этого журнала, у которой когда-то говеем своими людьми были и многие знаменитые писатели, — в числе их сам Гончаров, — и некоторые либеральные великие князья, и Крамской, и Рубинштейн, потом с ее зятем Туган-Барановским, входившим тогда в большую славу, с Маминым-Сибиряком, с Немировичем-Данченко, со столпом народничества Воронцовым, ведшим тогда ожесточенную борьбу со Струве, и с Туган-Барановским, которого Воронцов в своих статьях неизменно называл с самой язвительной вежливостью: «Господин Туган», с тощим и удивительно страстным Волынским, ярым врагом Михайловского, как раз в эту пору возвестившим нарождение в мире «новых мозговых линий», над которыми Михайловский всячески и жестоко издевался… Среди всех этих лиц, кажется, один неутомимо-жизнерадостный Немирович-Данченко не принадлежал ни к какой партии, на всех и на все поглядывал любезно и благодушно. Уж на что был спокоен, не склонен к спорам вечно сосавший свою трубочку Мамин, а и тот не чужд был некоторых пристрастий и довольно ядовито пускал иногда про Волынского: