Бывшее и несбывшееся
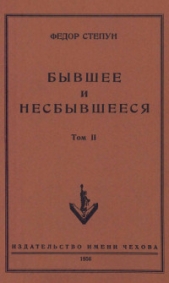
Бывшее и несбывшееся читать книгу онлайн
«Бывшее и несбывшееся» — мемуары выдающегося русского философа Федора Степуна, посвященные Серебряному Веку и трагедии 17-го года. По блистательности стиля и широте охвата их сравнивают с мемуарами Герцена и Ходасевича, а их философская глубина отвечает духу религиозного Ренессанса начала XX века и его продолжателям в эмиграции. Помимо собственно биографии Степуна читатель на страницах «Бывшего и несбывшегося» прикоснется к непередаваемо живому образу предреволюционного и революционного времени, к ключевым фигурам русского Ренессанса начала XX века, к военной действительности. Второй том полностью посвящен 17-му году: Степун был непосредственным участником тех событий. Артиллерийским прапорщиком он с фронта попадает в гущу тогдашней политики, становится начальником политуправления армии при Временном правительстве. Последние страницы мемуаров Степуна посвящены попыткам строить нормальную жизнь в новых советских условиях: театр в голодной Москве, сельскохозяйственная коммуна... Однако большевики изгонят Степуна из России. Степун предваряет свои мемуары следующими словами: «"Бывшее и несбывшееся" не только воспоминания, не только рассказ о бывшем, пережитом, но и раздумье о том, что «зачалось и быть могло, но стать не возмогло», раздумье о несбывшемся. Эта философская, в широком смысле слова даже научная сторона моей книги, представляется мне не менее важной, чем повествовательная. Я писал и как беллетрист, не чуждый лирического волнения, и как философ, как социолог и даже как политик, не замечая вполне естественных для меня переходов из одной области в другую. Близкий по своим философским взглядам славянофильски-Соловьевскому учению о положительном всеединстве, как о высшем предмете познания, я попытался подойти к нему в методе положительного всеединства всех методов познания. Врагами моей работы, с которыми я сознательно боролся, были: идеологическая узость, публицистическая заносчивость и эстетически-аморфное приблизительное писательство. [...] В противоположность туманно трепетным воспоминаниям, светлая память чтит и любит в прошлом не то, что в нем было и умерло, а лишь то бессмертное вечное, что не сбылось, не ожило: его завещание грядущим дням и поколениям. В противоположность воспоминаниям, память со временем не спорит; она не тоскует о его безвозвратно ушедшем счастье, так как она несет его непреходящую правду в себе. Воспоминания — это романтика, лирика. Память же, анамнезис Платона и вечная память панихиды, это, говоря философским языком, онтология, а религиозно-церковным — литургия».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Николай Сергеевич и Серафима Васильевна объявили крестьянам, что официально они бумаги выдать не могут, так как, по советским законам, все помещики лишены права распоряжения своей землей, но что на словах они согласны обещать, что ни они, ни их наследники ни при каких условиях не предъявят своих прав на отошедшую крестьянам землю. Данному слову делегаты поверили. Поблагодарив своих бывших «господ» за сочувствие, они с радостью пошли успокаивать недоверчивую деревню.
Главная трудность ивановского хозяйствования заключалась в том, что поначалу у нас не было собственного хлеба. Так как его во всей округе сеяли очень мало, то и у крестьян его почти что невозможно было добыть. За три пуда ржаной муки приходилось отдавать енотовую шубу, или еще что–либо столь же ценное. Спускать одну за другой последние вещи было невозможно. Оставалось питаться главным образом овсом. Но, съедая последний овес, мы не могли кормить ни лоииадей, ни птицы, ни наших привыкших к овсянке сенбернаров.
Тощие, обросшие к зиме длинною, как у коз, шерстью лошади, немощно шатались в оглоблях. Куры, которым давали одну картофельную кожуру, одна за другой околевали в курятнике. Своих любимиц, разных хохлушек и рябушек, Серафима Васильевна то и дело брала в теплую кухню на подкорм, но и это спасало немногих. По нескольку раз в день, проходя кухней, я с грустью замечал, как все ниже спускалась над круглым куриным глазом тоненькая пленка синего века. Перед смертью курица падала на бок, протягивала когтистые ноги. Тут ее прирезывали. Разлив по тарелкам (большая редкость) куриный бульон, Наташа тщательно всем поровну делила обтянутые кожею кости. Двадцать голодных глаз со вниманием следили за движением ее рук.
Мучительнее было смотреть, как умирали собаки, Потап и Самба, к которым все за революцию крепко привязались. Чуткие сторожа и непримиримые враги всякого непрошенного гостя, они ревностно охраняли нашу усадьбу. Могло случиться злое, но не могло случиться ничего неожиданного. Собак кормили, как могли, но чем их было кормить?
Первым перестал бегать громадный молодой Потап. С трудом волоча свои словно парализованные задние ноги, он с опущенной головой и поджатым хвостом целыми днями тоскливо ходил между большим домом и флигелем, подолгу простаивая под кухонными окнами.
Окончательно обессилев, он покорно лег умирать у заднего крыльца большого дома. Каждый раз, когда открывалась дверь, красавец сенбернар медленно поворачивал свою добрую квадратную морду, подымал вверх свои скорбные глаза в кровавых веках и молил о помощи. Трогательнее и мучительнее всего в этой беспомощной, собачьей смерти было то, что Потап до конца пытался исполнять свой долг. Почуяв идущего мимо дома чужого, он и перед самой смертью еще лаял на него. Но в голосе уже не было ни злобы, ни звука, только жалоба и преданность своим господам. Вскоре после смерти своего сына той же смертью и с той же покорностью издохла и Самба.
В дни, когда в Ивановке подыхали собаки и куры, газеты, как и всегда, были полны сведениями о вынесенных и приведенных в исполнение смертных приговорах. Как понять, что эти сведения о где–то происходящих казнях иной раз и отдаленно знакомых тебе людей, не причиняли большей муки, чем страдания подыхающих у тебя на глазах животных? До чего же странно и страшно смешаны в нашем сердце черствость и чувствительность.
Голодали мы, главным образом, не по нашей хозяйственной неопытности, а благодаря правительственным поборам, особенно непомерным в эпоху военного коммунизма. Хотя мы и научились у крестьян не только подсовывать в сдаваемые на лидийском «ссыпном пункте» воза с сеном тяжелые камни, но и подмешивать к нему порядком намоченную листву, львиная доля покоса все же уходила в Совет. Еще хуже дело обстояло с овсом, так как надувать советского сторожа Герасима, обслуживавшего весы, на овсе было много труднее, чем на сене: своей лошади он не держал, сам же, как и все, питался овсяной мукой. До чего же обидно было ссыпать овес, который в поте лица своего, не разгибая спины, жало наше «трудовое хозяйство», в казенные амбары, не имея уверенности, что он не будет разворован до раздачи беднякам на посев.
Перед Рождеством с продовольствием стало совсем плохо. Узнав, что мой знаменский приятель, сапожник Лисицын, собирается за хлебом и маслом к родственникам в Тверскую губернию, я решил попросить его взять меня с собой. Лисицын охотно согласился.
Набрав всяких вещей на промен — больше мелочей, так как все ценное было выменено — скатертей, простынь, кофточек, бус, кружев, брошек, булавок (прихватил и Наташин японский маскарадный костюм), я тщательно записал, кто что мечтает получить за свои сокровища. Когда солнечным морозным утром Лисицын заехал за мной, я зарыл для безопасности свой чемодан с вещами в сено розвальней и, удобно устроился на нем. Сочувственно напутствуемые всем домом, мы с предпринимательским волнением тронулись в путь.
Протрусив верст двадцать по Ракитинскому шоссе, мы свернули на еле видный проселок. Временами дорога совершенно пропадала в снегах, лишь вороньи перелеты по подснежным навозным кучам указывали на то, что мы еще не сбились с пути. Встречных становилось все меньше. Зато все чаще попадались заячьи и лисьи следы, вызывавшие детский восторг в страстном охотничьем сердце моего спутника.
Смотря на искристые снежные дали и слушая оживленный рассказ Лисицына о том, как он в доброе старое время охотился в этих местах «с хорошими господами», я с нежностью вспоминал покойного отца… Особенно таинственным казался он мне, когда собираясь на волчью охоту с поросенком, он в белом поверх короткого полушубка халате и в белых валенках рассеянно прощался с взволнованною матерью в нашей большой кондровской передней у старинных часов с кукушкой… Под вдруг услышанный глуховатый бой этих, давно забытых часов, в моей душе со сновидческой таинственностью всколыхнулись и быстро — событие за событием, образ за образом — понеслись светлые дали моего невозвратного детства.
Окрестные снега сливались с калужскими, по которым я в день моего рождения мчался с мамой в «Полотняный завод», в один необъятный солнечно–синий простор, отчего в душе становилось бесконечно печально, но и бесконечно блаженно… Наши вершинные переживания все связаны с выступлением жизни из теснящих ее берегов настоящего, с разливом души по бескрайным далям прошлого и будущего.
Завернув часам к двенадцати к старому Лисицынскому заказчику, державшему трактир, подкрепившись чем Бог послал и накормив лошадь, мы часа через два тронулись дальше (оставалось верст 30). Родственники встретили нас очень радушно: Лисицыну от души обрадовались, а мне ничуть не удивились: очевидно, побирающиеся господа становились обычным явлением в деревне. Нас сразу посадили за стол, налили горячих щей, отрезали хлеба и поставили крынку молока. Мы вынули свои остатки и принялись за ужин. На печи лежал больной дед (он страдал старческой гангреной, горячо молил о смерти и печалился, что Бог не посылает ее) лохматый, с колтунами на голове и худой как Кащей. Внучка налила ему щей, забелила молоком, накрошила в них хлеба и подала миску на печку, но дед есть не стал, говоря, что перед отходом можно и попоститься. О докторе он и слышать не хотел: человека, которому не к чему жить, незачем и лечить. Заросшее до скул сивою бородою лицо деда было с кулачок и всё иссечено мелкими морщинами. Жизнь оставалась только в глазах, неожиданно ласково смотревших из–под мохнатых, нависших бровей.
Спать меня положили недалеко от печки. Деду не спалось и, хотя разговаривать с ним мне приходилось, не вынимая трубки изо рта, чтобы не задохнуться от тяжкого духа, мы проговорили с ним чуть ли не до полуночи. До сих пор жалею, что в свое время не записал исполненного редкой житейской мудрости рассказа рожденного еще в крепостной неволе старика о его долгой, внешне однообразной, но богатой опытом и наблюдениями жизни. Для подлинно народной мысли характерно то, что она всегда цветет своими собственными словами. Забыв слова, пожалуй, лучше не передавать народных мыслей.


























