Бывшее и несбывшееся
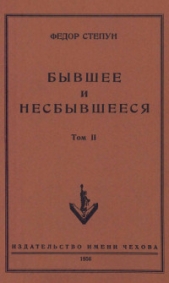
Бывшее и несбывшееся читать книгу онлайн
«Бывшее и несбывшееся» — мемуары выдающегося русского философа Федора Степуна, посвященные Серебряному Веку и трагедии 17-го года. По блистательности стиля и широте охвата их сравнивают с мемуарами Герцена и Ходасевича, а их философская глубина отвечает духу религиозного Ренессанса начала XX века и его продолжателям в эмиграции. Помимо собственно биографии Степуна читатель на страницах «Бывшего и несбывшегося» прикоснется к непередаваемо живому образу предреволюционного и революционного времени, к ключевым фигурам русского Ренессанса начала XX века, к военной действительности. Второй том полностью посвящен 17-му году: Степун был непосредственным участником тех событий. Артиллерийским прапорщиком он с фронта попадает в гущу тогдашней политики, становится начальником политуправления армии при Временном правительстве. Последние страницы мемуаров Степуна посвящены попыткам строить нормальную жизнь в новых советских условиях: театр в голодной Москве, сельскохозяйственная коммуна... Однако большевики изгонят Степуна из России. Степун предваряет свои мемуары следующими словами: «"Бывшее и несбывшееся" не только воспоминания, не только рассказ о бывшем, пережитом, но и раздумье о том, что «зачалось и быть могло, но стать не возмогло», раздумье о несбывшемся. Эта философская, в широком смысле слова даже научная сторона моей книги, представляется мне не менее важной, чем повествовательная. Я писал и как беллетрист, не чуждый лирического волнения, и как философ, как социолог и даже как политик, не замечая вполне естественных для меня переходов из одной области в другую. Близкий по своим философским взглядам славянофильски-Соловьевскому учению о положительном всеединстве, как о высшем предмете познания, я попытался подойти к нему в методе положительного всеединства всех методов познания. Врагами моей работы, с которыми я сознательно боролся, были: идеологическая узость, публицистическая заносчивость и эстетически-аморфное приблизительное писательство. [...] В противоположность туманно трепетным воспоминаниям, светлая память чтит и любит в прошлом не то, что в нем было и умерло, а лишь то бессмертное вечное, что не сбылось, не ожило: его завещание грядущим дням и поколениям. В противоположность воспоминаниям, память со временем не спорит; она не тоскует о его безвозвратно ушедшем счастье, так как она несет его непреходящую правду в себе. Воспоминания — это романтика, лирика. Память же, анамнезис Платона и вечная память панихиды, это, говоря философским языком, онтология, а религиозно-церковным — литургия».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мой неожиданный откровенный ответ поражает крикунов и на минуту они растерянно стихают.
Пользуясь данной мне передышкой, я обращаюсь к социалистической интеллигенции и пытаюсь, не нападая на моего большевистского оппонента, а лишь уточняя на свой лад марксистскую идеологию, защитить свою, отнюдь не контрреволюционную точку зрения на революцию, но моя тактика терпит быстрое поражение. Атмосфера накаляется до предела; говоря, я чувствую, как безнадежно испаряются в аудитории и разум моих слов и очертания мыслей. Меня все чаще начинают прерывать злостные возгласы и свистки; наконец сверху раздается какое–то угрожающе–сигнальное: «Да что его слушать, товарищи, долой… долой…»
Несколько человек, как по команде, срываются с места и устремляются к кафедре. Им навстречу вскакивают какие–то люди. Начинается форменная свалка. Аудитория неистовствует, председатель звонит беспрерывно и, наконец, покидает зал, а за ним и я. В лекторской кто–то напяливает на меня шубу и подает шапку. Мы с Наташей быстро прощаемся с «политическими каторжанами» и какими–то темными проходами через задние двери выходим на улицу.
Весной 1919–го года мы решили порвать с Москвой, окончательно перебраться в Ивановку и войти в трудовую коммуну. Везти с собою в маленький флигель всю обстановку, которая, ввиду предполагавшегося отъезда за границу, была перед войною сдана на хранение в мебельный склад, не представлялось возможным. Потому мы решили продать один из моих кабинетов. Но какой? Старинный ли, красного дерева, который стоял в наташиной девичьей комнате и служил нам в Москве гостиною, или подаренный нам с Аней ее родителями кабинет «модерн», зеленого дуба. Несмотря на гибель того мира, в котором были еще спокойные квартиры, большие библиотеки и творческий досуг, этот вопрос долго мучил меня. Чем оглушительнее гремела история своими мировыми событиями, тем существеннее становился каждый полутон той мелодии личной жизни, вслушиваться в которую меня выучила война. В октябре 1916–го года я, после тяжелых боев и больших потерь, писал с фронта Наташе: «Мимолетное — как вечное, интимное — как вселенское, лирика — как космогония — вот волнующие меня сейчас темы».
Попросив у покойной Анны прощения, мы не без тяжелых борений, решили продать зеленый кабинет и отдали его с этою целью на комиссию в какой–то мебельный магазин.
Его выставили в большой зеркальной витрине где–то около Кузнецкого моста, отягчив правый угол письменного стола, где у меня всегда стоял портрет Владимира Соловьева, бронзовым бюстом Карла Маркса. Так кабинет стоял несколько недель. Сколько раз я ни заходил наведаться, ответ был все тот же: «охотники находятся, но надо сбавить цену», я на сбавку не соглашался: очевидно, мне подсознательно не хотелось расставаться с комнатою, в которой было так много пережито. Но вот пришла открытка: «можете получить деньги». Перед тем, как войти в магазин, я долго стоял перед окном. Не знаю, смогу ли передать свои чувства? Нет, это не только мебель, не только светло–зеленый дуб и светло–зеленая пенька обивки, по которой бежит такой знакомый глазу лиственный узор, это еще и зеленый шатер нашей светлой, но и мучительной, как всякая весна, любви. Я смотрю в стекло витрины и вижу бегущую мне навстречу сквозь молодую зелень гейдельбергского сада Анну. До вершины жизни она, бедная, не добежала. В зеленый рай ее весны внезапно ворвался ветер с Немана. Я слышу его шум — как больно. Хоть на дворе и светлый день, у меня перед глазами темнеет. В окне, вытесняя зеленый шатер, появляется Нинин дом в церковной ограде. Под оградой чуть колышется ночной Неман— как холодно было Ане лежать в нем — а над Неманом светятся печальные Нинины глаза…
Эти, почти не поддающиеся слову чувства и образы и раньше поднимались во мне, в особенности, когда я поздними ночами работал у себя в кабинете, а Наташа приглушенно играла на рояле в своей комнате. Но с такою силою, как в час прощания с Аниным приданым, в час вынужденной передачи его в какие–то чужие, враждебные руки (из своих людей в те дни никто мебели не покупал) они меня еще никогда не мучили. Становилось даже страшно, не потревожит ли тот темный человек, который через несколько дней войдет в наш кабинет, загробного покоя Анны.
Через несколько дней после получения денег за проданный кабинет, мы с Наташей пошли покупать обои, для чего, непонятным образом, еще не требовалось ордера. Выбор был небольшой, а у нас было вполне точное представление о стиле и колорите комнат ивановского флигеля под еще более старым серебристым тополем, чем тот, что высился перед окнами нашей московской квартиры на Новослободской. Долго думая, что купить, мы прекрасно понимали до чего мы похожи на тех неосмотрительных воробьев, что каждую весну начинали вить гнездо на одной из ставен большого ивановского дома, которые ежевечерне закрывались на ночь. Но сознание не помогало. Привезя в Ивановку обои, серые с краснотцой и золотом для кабинета, и светлые, с голубыми венками ампир для спальни, мы с радостью начали оклеивать стены «Известиями», бездумно пробегая притом одним глазом напечатанные в них ужасы, в том числе и списки приговоренных к расстрелу, среди которых часто попадались знакомые имена. В наше оправдание могу только сказать, что мы, вероятно, с не меньшею радостью устраивали бы свой флигель даже и в том случае, если бы знали, что и нам уже вынесен смертный приговор и что мы недолго проживем в своем гнезде. Противоречивость человеческой души, отнюдь не исключающая ее цельности является, как известно психологам, одною из главных причин ее прочной устойчивости в жизни.
Покончив с оклейкой, мы принялись за окраску пола и дверей. Для просушки топили хворостом большую печку с лежанкой. В открытые окна струился влажный весенний воздух. Под нашими окнами часто появлялся уютнейший Николай Сергеевич в старенькой куртке, которую мы привезли ему в подарок из Фрейбурга, посмотреть, как спорится работа.
Когда все было кончено, мы пошли кланяться соседу Туманову. Кроме него, никто привезти нашей мебели из Москвы не мог. Он милостиво снизошел и обещал привезти, как только просохнет проселок.
В деревне революция развертывалась гораздо медленнее, чем в городе. Чуть ли не год спустя после гнусного убийства министра земледелия Временного правительства Шингарева, у нас в волости не только существовали, но даже и действовали так называемые шингаревские земельные комиссии. Помню, как члены такой комиссии, степенные, зажиточные крестьяне, описывая наш живой и мертвый инвентарь, хозяйственно ходили по двору, по–цыгански дергали лошадей за хвост, щупали «колодцы» у коров, тщательно прикидывали завидущими глазами, на сколько пудов наш новый сенной сарай, сколько примерно лет еще простоит ветхая рига и явно раздумывая, как бы всё это половчее прибрать к рукам (господам все равно не удержаться), лицемерно причитывали: «Что деется, барыня, что деется, глаза бы не смотрели»…
Ко времени нашего переезда в Ивановку, в деревне уже народилась новая психология. Марксистская теория расслоения крестьянства на кулаков, середняков и бедноту была одинаково популярна как на кулацких верхах, так и на бедняцких низах.
Зажиточные мужики и тяготеющие к ним середняки, возмущенные безвозмездным отобранием лошадей в красную армию (вместо денег выдавали талоны), непомерными штрафными обложениями и запретом вольной покупки хлеба, что для нашей местности, промышлявшей главным образом сеном и углем, означало голод, молчали, но затаенно готовились к отпору.
Поначалу среди верхушки кулаков были надежды на Белое движение, но после многих возмущенных рассказов отпускных красноармейцев, что Деникин не только «против коммунистов и жидов, но и за помещиков, которым возвращает землю», наступило горькое разочарование. Такой оборот дела никому не нравился и ни в чьи расчеты не входил. Оставалось надеяться на свои силы, но все сознавали, что сил нет, и куражились разве только в пьяном виде. По мнению разоткровенничавшегося со мною в пьяном виде кулака Туманова, восстание можно было бы сразу поднять, если бы не была отменена винная монополия.


























