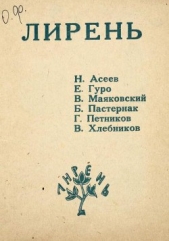Маяковский. Самоубийство

Маяковский. Самоубийство читать книгу онлайн
Смерть и бессмертие… В приложении к Маяковскому оба эти слова таят в себе множество вопросов. О причинах трагической гибели поэта спорят поныне, и споры эти сегодня так же горячи, как в тот роковой день 14 апреля 1930 года. И с бессмертием Маяковского дело обстоит тоже непросто. На какое бессмертие может рассчитывать поэт, сказавший: «Умри, мой стих…», «Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать на мраморную слизь…»?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Оставим в стороне тон и запальчивую, раздраженную стилистику этого «объяснения в любви». Чувствуется, что Маяковского автор статьи не просто не любит, он его ненавидит. Впрочем, ненависть — слишком сильное слово. Правильнее было бы сказать, что Маяковский — каждая его строка, каждое слово, каждая запятая, каждый восклицательный знак — вызывает у автора статьи жгучую аллергию. Поэтому на стилистику этой его филиппики мы обращать внимания не будем. Сосредоточимся исключительно на его выводах. На том, что — с некоторой, правда, натяжкой — можно все-таки рассматривать как попытку диагноза.
Все, решительно все в этом диагнозе поставлено с ног на голову, осмыслено и представлено «с точностью до наоборот».
Ведь на самом деле лирике Маяковского с самых ранних его стихов была органически присуща именно чрезмерная лирическая распахнутость и именно безоглядная внутренняя раскрытость. Распахнутость и раскрытость поистине изумляющие, кажущиеся даже слегка ненормальными. В своих отношениях с любимой он и в жизни, и в стихах был уязвим предельно. И предельно открыт. Стоило только ему заговорить «про это», стоило только прикоснуться к «этой теме, и личной и мелкой», как от привычной позы и маски (все равно какой — футуриста-эстрадника, скандально эпатирующего буржуазную публику, или мэтра, снисходительно поучающего пролетарских писателей) не оставалось даже и следа:
Вот так же не важно это было ему и в его взаимоотношениях с любимой (любимыми). Не то что поза или маска, даже самое примитивное мужское самолюбие, элементарное, каждому мужчине свойственное желание скрыть, не показать свою слабость, свою зависимость (а любящий всегда зависим) были ему не свойственны ни в малейшей степени. Открытость, распахнутость, уязвимость его в этих случаях бывала даже на грани ненормальности:
► Он запер дверь и положил ключ в карман. Он был так взволнован, что не заметил, что не снял пальто и шляпу.
Я сидела на диване. Он сел около меня на пол и плакал. Я сняла с него пальто и шляпу, гладила его по голове…
► Лилек!
Я вижу ты решила твердо. Я знаю что мое приставание к тебе для тебя боль. Но Лилик слишком страшно то что случилось сегодня со мной что б я не ухватился за последнюю соломинку за письмо.
Так тяжело мне не было никогда — я должно быть действительно чересчур вырос. Раньше прогоняемый тобою я верил во встречу. Теперь я чувствую что меня совсем отодрали от жизни что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет. Я это всегда говорил всегда знал теперь я это чувствую всем своим существом, все о чем я думал с удовольствием сейчас не имеет никакой цены — отвратительно.
Я не грожу я не вымогаю прощения… И все-таки я не в состоянии не писать не просить тебя простить меня…
Я сижу в кафэ и реву надо мной смеются продавщицы. Страшно думать что вся моя жизнь дальше будет такою…
Уроки Жюльена Сореля или Онегина («Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей») — были не для него. При его душевной распахнутости такой образ поведения был бы ему просто не под силу.
И таким же открытым, распахнутым, бесконечно уязвимым, отрешившимся от последних остатков мужского самолюбия, не боящимся быть даже униженным, предстает он перед нами и в своих любовных стихах:
Для тех, кто глух к его стихам (как, впрочем, и к другим тоже), они — нарочиты, искусственны, даже фальшивы:
► Часто говорят о чрезмерной энергии, темпераменте Маяковского-лирика, но ведь и темперамент этот чрезвычайно фальшив, неискренен, наигран. Обусловленная гигантоманией (или манией величия) автора лексика («звоночище», «мячище», «ручьища» и т. п.) не эффективна, как и обилие восклицательных знаков почти в каждой строфе… «Ткнулся губой в телефонное пекло», «смертельной любви поединок», «мне лапы дырявит голоса нож», «сигналю ракетой слов», «прикрывши окна ладонью угла», «я бегал от зова разинутых окон», «дверье крыло раз по сто по бокам коридора исхлопано», «Ужас дошел, натягивая нервов строй» и т. п. Напыщенность и однообразие глушат подлинный голос чувства…
В отличие от Блока, настаивавшего, что поэт — «сын гармонии», Маяковский изначально ощущал себя детищем вопиющей дисгармонии, хаоса, анархии, разрушения эстетики. Его союз с О. Бриком, Б. Арватовым, Н. Чужаком и другими лефовскими шарлатанами-теоретиками «производственного искусства», перехода «из эстетики в производственничество» был совершенно закономерен.
Еще со времен «Облака в штанах» всем, в том числе и ему самому, было понятно: Любовь-Мария к такому не придет.
Это не из «рапповских» или «напостовских» статей начала 30-х и даже не из кампании по «борьбе с формализмом», развернувшейся после печально знаменитой разгромной статьи «Правды» об опере Шостаковича.
Приведенная цитата — все из той же статьи Дмитрия Нечаенко, написанной и опубликованной в 1995-м.
После всего уже сказанного вряд ли стоит оспаривать адресованные лирическим стихам Маяковского обвинения в их фальши и неискренности. И уж совсем не стоит опровергать замечательное утверждение автора статьи насчет того, что «Любовь-Мария к такому не придет». Но на одном словечке из этого потока уничтожающих, растаптывающих поэта определений есть смысл задержаться.
Слово это — гигантомания.
Оно в этом потоке — единственное, которое вроде бы не бьет мимо цели:
Строчками, подобными этим, при желании можно было бы заполнить не одну страницу.
Да, склонность к тому, что Дмитрий Нечаенко называет гигантоманией, Маяковскому действительно была присуща.
Но только ли ему одному?