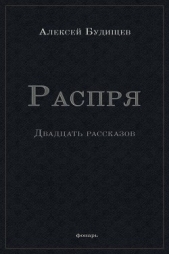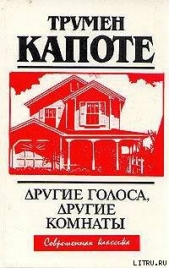Распря с веком. В два голоса
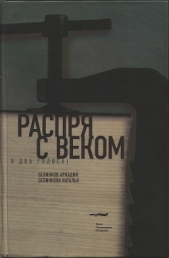
Распря с веком. В два голоса читать книгу онлайн
«Распря с веком» — свидетельство двух человек о творческой жизни писателя Аркадия Белинкова (1921–1970) в советской России и за рубежом. О поворотах в его судьбе: аресте, эмиграции, ранней смерти.
Фрагментами своих опубликованных и неопубликованных книг, письмами и черновиками Аркадий Белинков сам повествует о времени, жертвой и судьей которого он был.
Наталья Белинкова, прибегая к архивным документам и своим воспоминаниям, рассказывает о самоотверженной борьбе писателя за публикацию своих произведений и о его сложных взаимоотношениях с выдающимися людьми нашего недавнего прошлого: Анной Ахматовой, Корнеем Чуковским, Виктором Шкловским и другими.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он: Что Вы имеете в виду?
Я: Любовь к некоторым институтам, с которыми борются Синявский, Солженицын, Павел Литвинов.
Он: А именно?
Я: Социализму, коммунизму, тоталитаризму, диктатуре.
Он: Ну, где Вы таких нашли? Кого Вы имеете в виду?
Я: Вас!
Он: Зачем же так, Вы меня не знаете…
Я: Знаю по Вашим статьям в „Литгазете“.
Он: А что… Я писал то, что думаю. Тане [Литвиновой] понравилось. Я писал, что здешние студенты анархичны и отклоняются от истинного марксизма. Если Вы это имеете в виду, то я за марксизм.
Я: Но ведь это смешно. Марксизм, который дает такие результаты, давно изжил себя.
Он: В том, что марксизм исказили, Маркс не виноват.
Я: Неужели результаты марксизма Вас ничему не научили?
Он: Нельзя же так чернить. О марксизме здесь спорят очень серьезные люди.
Я: Здесь спорят аргументами, а там кровью, нервами, жизнью.
Объявляется остановка „42-я стрит!“
Он: Ваша остановка.
Я: Счастливой поездки».
Пусть известный журналист, бывший завсегдатаем в Москве и Переделкине, останется неназванным. Отсутствие подлинного имени выведет этот эпизод из частного случая в общую тенденцию.
Белинков отличался от своих коллег не только взглядами и методами исследования литературных произведений, но и поведением в быту. К пяти часам дня американские профессора отходили от книжных полок в университетских офисах, отодвигали стулья от солидных письменных столов, прекращая деловой разговор на полуслове, прощались с коллегами и, как заурядные бизнесмены, возвращались в свои чистенькие, беленькие домики.
Профессиональная часть жизни кончалась, и вступала в свои права частная. Иногда она прерывалась вежливыми приемами, о времени и месте которых приглашенные уведомлялись за месяц вперед подобающими случаю открытками. Состав гостей зависел от того, «принадлежали» вы или «не принадлежали». Белинков принадлежал, но не вписывался. К такой форме социального общения, как small talk — болтовня, умение говорить ни о чем, он оказался не способен. В споре Аркадий не умел быть беспристрастным. Для него литература была не профессией, а формой существования. К сожалению, советская литература, которой он занимался, была связана с политикой. И за это он уже дорого заплатил. Он не мог оставить часть себя за закрытой дверью канцелярии после пяти часов вечера. Канцелярии не было.
Внешний мир вламывался в дома заголовками газет, последними новостями с телевизионного экрана, письмами со всего света. Но из частных домов его изгоняли. На церемонных приемах в Новой Англии говорить о своей работе, беде, болезни, а тем более о политике считалось и, должно быть, и сейчас считается дурным тоном. Да и наши студенты, выслушав рассказы о том, как мы проводили вечера с друзьями в России — откровенный разговор по душам, сообщение о передачах иностранных радиостанций, обмен мнениями о последних событиях, которых наши подцензурные газеты и не касались, — удивленно спрашивали: «Зачем же собираться, чтобы говорить о неприятном?» Политикой, этим грязным делом, предоставляется заниматься конгрессменам, сенаторам, обозревателям новостей и, конечно, президенту страны. Политический аспект, привнесенный в разговор, лекцию, статью, — это пропаганда. «Пропаганда» — ругательное слово. Специалист по литературе и пропаганда? Две вещи несовместные. Над откровенным антисоветизмом Аркадия, оказывается, тихонько посмеивались. Мы не знали этого, но чувствовали себя не в своей тарелке. «Почему, пока вы в России, вы все левые, а когда приезжаете сюда, становитесь правыми?» — откровенно спрашивали нас более молодые коллеги. Но к критике американского образа жизни, что было модно в либеральных кругах в 60-е годы, мы еще не были готовы. Какое бы уважение мы снискали, если бы, как приезжавший из СССР Евтушенко, публично скорбели о том, что «звезды скатываются с американского флага»!
В Йельском университете составляли программы на следующий (70/ 71-й) учебный год. К великому облегчению декана факультета Александра Шенкера, сменившего Виктора Эрлиха, Аркадий отказался от повторения семинара «Государство и писатель». Он предложил совершенно аполитичный (на первый взгляд) курс «Двенадцать лирических стихотворений в русской поэзии». Радость декана была безмерна. В ответ Аркадий в длинной темпераментной речи стал доказывать, что радоваться нечему, что русская литература никогда не была аполитична, что эстетские стихи Пушкина — это такие политические стихи, что даже ритм русских стихотворений диктуется дыханием времени. И, цитируя Блока, неистово кричал в трубку: «Дроби, мой гневный ямб, каменья!» (Разговор происходил по телефону.) Декану становилось яснее ясного, какой курс собирается читать его коллега.
Между тем иллюзия, что операция на сердце дала хорошие результаты, мало-помалу испарялась. Усилились и уже не прекращались боли в груди. Не хватало свежего воздуха, и теперь даже зимой Аркадий работал за письменным столом у открытого окна. Число студентов сократилось. Семинары были перенесены на дом. Они прерывались, если преподаватель оказывался в больнице. Но и из больницы он продолжал руководить своими учениками. А однажды врачи разрешили ему уйти «в отпуск». Аркадий прочитал лекцию в Колумбийском университете о методологии преподавания русской литературы и вернулся долеживать в больницу.
Причины, по которым Аркадий не вписывался ни в университетскую, ни в журналистскую среду, сублимировались постепенно. Но кризис наступил сразу.
К весне 1970 года (конец учебного 69/70-го года) атмосфера на кафедре резко переменилась. Репутация Аркадия (и как ученого, и как писателя) перестала играть прежнюю роль. Многочисленных блестящих лекций в университетах Америки как будто не было. Печатных работ, как в СССР, так и за рубежом, как будто не существовало. Бывшее членство в Союзе писателей, приравнивавшееся в СССР к кандидатской степени, во внимание не принималось. Прием в члены международного ПЕН-клуба никого не касался. Начались разговоры о том, что занимаемая Белинковым ставка — временная. Роберт Найт уже не занимался нами так, как раньше, и не у кого было спросить, откуда была получена и куда уплывала ставка. Эрлих, принимавший нас на работу, давал по этому поводу весьма туманные объяснения. Возможно, что нам, как беженцам, была обеспечена только временная помощь из неизвестных нам фондов или (что сомнительно) государственных источников. Последнее в глазах прогрессивной американской интеллигенции и вольнолюбивых студентов считалось зазорным. Может быть, факультет хотел административно очиститься, может быть, надо было избавиться от Белинкова из-за его «реакционных» взглядов, может быть, он просто не оправдал возложенных на него надежд.
Для продолжения работы в университете были выдвинуты новые условия. Вдруг возникла необходимость обзавестись американской докторской степенью и для этого сдать соответствующие экзамены, написать диссертацию и, конечно, овладеть английским языком. Без выполнения этих условий, обязательных для каждого американского аспиранта, делающего первые шаги в избранной им специальности, то есть без получения полноценной американской докторской степени Ph.D [269], контракт на работу не возобновлялся. Аркадию предлагалось принять участие в спектакле «Сдача экзаменов на профпригодность».
Признаться, что вас выживают из университета, где вы в данный момент преподаете, невозможно. Вы начинаете искать работу в другом месте, а вам говорят: «Вы хотите уйти из Йеля? Да это лучший университет страны!» Тогда вы — в зависимости от географического нахождения другого места работы — лепечете, что мечтаете жить в большом городе с музеями и концертными залами или что врачи вам советуют уехать в глухую деревню на свежий воздух… Вам, конечно, не верят.