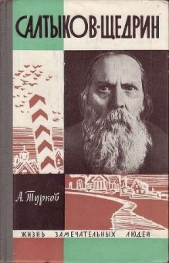Салтыков-Щедрин

Салтыков-Щедрин читать книгу онлайн
Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Таким удивительным лирическим объяснением в любви к родной стране начал Салтыков перед новым, 1884 годом рассказ «Пошехонское «дело». Бедный, злосчастный пошехонский люд — «простодушный, смирный, слегка унылый, или, лучше сказать, как бы задумавшийся над разрешением какой-то непосильной задачи». Всегда ты был таким, на все готовым, всегда шел безоговорочно и вперед и назад, «пьянел», когда можно было, «трезвел», когда велели или когда ничего другого не оставалось, а пустопорожние публицисты Скомороховы агитировали и ярились. Не впервой тебе и внешних супостатов в трепет приводить и внутренних врагов с раската сбрасывать, дабы отрезветь.
Великая печаль владеет Салтыковым, когда он повествует о трагическом пошехонском отрезвлении. Этим, самым патетическим и скорбным рассказом — «Пошехонское «отрезвление» — и завершает в феврале 1884 года Салтыков цикл «Пошехонских рассказов», начатый «балагурственными» фантастическими рассказами майора Горбылева — о его общениях с нечистой силой. Последний рассказ цикла не менее фантастичен, ибо сама российская действительность — действительность фантастическая. Но Салтыков уже не может за балагурством и ерничеством незабвенного майора скрыть своего негодования и трагической подоплеки пошехонского бытия. И если в жизни, когда его охватывало беспредельное отчаяние, он рычал, как раненый лев, заключенный в клетку, то и в сатирах своих он тоже умел рычать, страдая и задыхаясь от гнева и ужаса. Огромная сила юмора, заключенная в рассказах майора Горбылева, дополняется убийственной иронией и предельного накала сарказмом.
Отрезвели пошехонцы, здравый смысл обнаружили, делом занялись, от «слов» освободились (хотя и ранее, по правде говоря, не особенно большим запасом слов обладали). Однако точила их какая-то обида, как будто чего-то недоделали, а чего? — и сами не знали. Неудержимо повлекла их эта самая обида на площадь перед каланчой и съезжим домом 42, где некогда, по свидетельству Н. И. Костомарова, «северные народоправства» происходили. Но так как отрезвление было вполне бессловесным, никаких слов у них не находилось: зачем собрались они перед съезжим домом, где, запершись, сидел капитан Мазилка, они и сказать бы не сумели. Трезвый здравый смысл требовал действия: ведь в обиде-то виноват кто-то. Но как найти виноватого? На ком выместить обиду? Пожалуй, слово вымолвишь, так тебя и обвиноватят. Испугался поначалу капитан Мазилка, как бы не стали пошехонцы уж очень явно трезвый здравый смысл предъявлять, но увидел, что они рот разиня стоят, еще более их из пожарной кишки отрезвил. И разошлись пошехонцы, вымокшие, иззябшие, сердитые, по домам своим.
Наутро встали они, еще более мрачные и обескураженные. А тут еще публицист Скоморохов зудит: «Пусть каждый в каждом проследит успехи, сделанные отрезвлением, пусть каждый каждому предъявит тот обязательный minimum, неподчинение которому должно угрожать очень серьезными (а не мнимыми, как было до сих пор) последствиями для неподчиняющегося». Или, проще говоря (внушал Скоморохов все еще чего-то опасавшемуся Мазилке): «Пускай друг дружку пощупают, вреда от этого не будет». Все подстрекательства Скоморохова так и остались бы втуне, не явись тут злосчастный пошехонский обыватель, смирный и степенный Иван Рыжий.
Политические убеждения его были просты: «Ежели начальство, по упущению, и неправильно чего-нибудь требует, то и тогда следует требование его беспрекословно выполнить». И ересь эта до сих пор сходила ему с рук, хотя давно уже ее следовало бы редактировать так: «Всякое начальственное требование от природы правильно, а потому и следует его выполнить». Когда пошехонцы увидели беспечно шествующего Ивана Рыжего, они вдруг поняли: «А ведь это он самый и есть».
И пропал Иван Рыжий, а пошехонцы, вновь окаченные водой из пожарной трубы, разошлись по домам «в полной уверенности, что теперь, когда они уже фактически доказали свое отрезвление, они найдут дома не тюрю с водой, как накануне, а щи с убоиной.
Но ни щей, ни убоины не было; даже тюри как будто убавилось. Задача усложнялась самым безнадежным образом.
Ибо пошехонская обида в том главным образом и состояла, что атаманы-молодцы уж давно ничего, кроме тюри с водой не едали».
Но откуда же ее, эту убоину взять? До коей меры отрезвления надо дойти?
В третий раз собрались вечевые люди пред каланчой и съезжим домом. Скоморохов не угомонился, он еще больше разъярился и человеконенавистничал: «Нет, господа! Одной жертвы недостаточно! Как ни прискорбно сознавать, что общее благо достигается только ценою человеческих жертв, но так как исторический опыт возвел это правило на степень аксиомы, то не следует уже останавливаться ни перед количеством, ни перед качеством жертв».
И что же? Последовало взаимное истребление. «В третий раз ворота съезжего дома заскрипели, и в третий раз обильная струя воды окатила расходившихся вечевых людей».
Неужели и теперь мораль сей басни не дойдет до вас, о пошехонцы, находящие благополучие в утрате способности мыслить и в бессловесности, в «трезвенном» здравом смысле, который оставляет вас по-прежнему с одною лишь тюрей? Неужели не поймете наконец вы, «обнаженные и от прошедшего и от будущего»?
Вспомнилось вдруг, как, побывавши в августе в Париже, мечтал проститься с умиравшим Тургеневым: «все-таки хороший писатель был и немало людей утешил». Да, как-то все ближе становились эти могикане русской литературы, эти питомцы великих сороковых годов — «замечательного десятилетия», по слову еще одного из этих людей, к которому все чаще стал ощущать какую-то умильную нежность, к обломку счастливой молодости — Павлу Анненкову. Но попрощаться с Тургеневым не пришлось, так тот был мучительно болен, бессилен, уже отрешен от мира. Тягостны были рассказы очевидцев о его последних днях. 22 августа Тургенев умер. Прощальное письмо Салтыкова осталось непрочитанным.
Что-то долго апрельская книжка «Отечественных записок» находится в «чреве китовом» — в цензурном ведомстве, а времена ведь ныне строгие, склонные к оплеухам и заушательству, хотя, в сущности, и бесплодные. Какую оплеуху готовят ему на этот раз судьба и цензурное ведомство? Неужели новую «вырезку»? Но чего? Казалось бы, в апрельской книжке придраться не к чему. Да к тому же цензурный «бог» Феоктистов обещал, что без предварительного соглашения с главным редактором, Салтыковым, никаких мер против журнала приниматься не будет. (8 марта Салтыков побывал у Феоктистова: лицо его показалось знакомым, хотя раньше вроде бы и не встречались. Евгений Михайлович был чрезвычайно любезен. Поговорили много и «изобильно». Прибавил при этом Феоктистов, что и министр граф Толстой «не желает предпринимать чего-либо лично против меня по старому товариществу».) Впрочем, с пошехонцами надо держать ухо востро, и дела иметь с ними очень трудно: нет никакой надежды на их обещания, а тем более поддержку. Как бы не оказаться в положении Ивана Рыжего.
Вот уж и лед на Неве сломало — пошел сначала невский, а потом и ладожский, наступили пасхальные праздники. Принялся за новый очерк для рубрики «Между делом», содержание его как бы задано первой фразой: «Пасхальные праздники на время заслонили внутреннюю политику». Нахлынули воспоминания о далеком прошлом, о пасхальных днях в провинции, об этой веселой, ликующей весенней ночи, когда был молод, радость переполняла душу, хотя давил опостылевший мундир, хотя одолевала и засасывала серая провинциальная скука. Несмотря на все тогдашние тяготы, все же не было этого мучительного чувства отторженности от живого мира, такого одиночества, выход из которого уже и не грезился. Теперь же, в последнее время, «одиночество — пожалуй, даже заброшенность — до такой степени охватило меня, что я почти исключительно разговариваю с одними читателями. Их я и поздравляю: Христос воскрес! поцелуемтесь!»
Вот и сегодня — совсем один, и только стопа бумаги, и эта беседа с неведомым читателем.