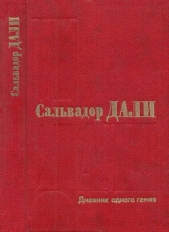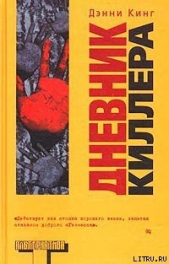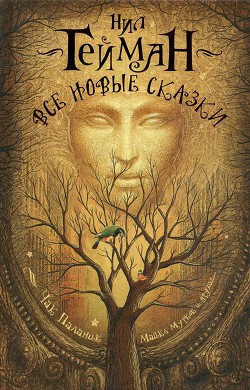Дневник (1901-1929)

Дневник (1901-1929) читать книгу онлайн
Трудно представить себе, что дневник пишут, думая, что его никто никогда не прочтет. Автор может рассчитывать, что кто-нибудь когда-нибудь разделит его горести и надежды, осудит несправедливость судьбы или оценит счастье удачи. Дневник для себя - это - в конечном счете - все-таки дневник для других
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
1-е апреля 1928 г. Мне 46 лет. Этим сказано все. Но вместо того, чтоб миндальничать, запишу о моих детских книгах — т. е. о борьбе за них, которая шла в Комиссии ГУСа. Маршак мне покровительствовал. Мы с ним в решительный вторник — то есть пять дней тому назад — с утра пошли к Рудневой, жене Базарова, очень милой, щупленькой старушке, которая приняла во мне большое участие — и посоветовала ехать в Наркомпрос к Эпштейну. Я тотчас после гриппа, зеленый, изъеденный бессонницей, без электричества, отказался, но она сказала, что от Эпштейна зависит моя судьба, и я поехал. Эпштейн, важный сановник, начальник Соцвоса, оказался искренним, простым и либеральным. Он сказал мне: «Не могу я мешать пролетарским детям читать «Крокодила», раз я даю эту книжку моему сыну. Чем пролетарские дети хуже моего сына».
Я дал ему протест писателей10, мой ответ Крупской и (заодно) письмо сестры Некрасова. Прочтя протест, он взволновался и пошел к Яковлевой — главе Наркомпроса. Что он говорил, я не знаю, но очевидно разговор подействовал, потому что с той минуты дело повернулось весьма хорошо. Маршак пошел к Менжинской. Она назначила ему придти через час — но предупредила: «Если вы намерены говорить о Чук.— не начинайте разговора, у меня уже составилось мнение». Руднева устроила Маршаку свидание с Крупской. Крупская показалась ему совершенной развалиной, и поэтому он вначале говорил с ней элементарно, применительно к возрасту. Но потом оказалось, что в ней бездна энергии и хорошие острые когти. Разговор был приблизительно такой (по словам Маршака). Он сказал ей, что Комиссия ГУСа не удовлетворяет писателей, что она превратилась в какую-то Всероссийскую редакцию, не обладающую ни знаниями, ни авторитетом, что если человека расстреливают, пусть это делает тот, кто владеет винтовкой. По поводу меня он сказал ей, что она не рассчитала голоса, что она хотела сказать это очень негромко, а вышло на всю Россию. Она возразила, что «Крокодил» есть пародия не на «Мцыри», а на «Несчастных» Некрасова (!), что я копаюсь в грязном белье Некрасова, доказываю, что у него было 9 жен. «Не стал бы Чук. 15 лет возиться с Некрасовым, если бы он его ненавидел...» — сказал Маршак. «Почему же? Ведь вот мы не любим царского режима, а царские архивы изучаем уже 10 лет»,— резонно возразила она. «Параллель не совсем верная,— возразил М.— Нельзя же из ненависти к Бетховену разыгрывать сонаты Бетховена». Переходя к «Крокодилу», М. стал доказывать, что тема этой поэмы — освобождение зверей от ига.
— Знаем мы это освобождение,— сказала Кр.— Нет, насчет Чук. вы меня не убедили,— прибавила она, но несомненно сам Маршак ей понравился. Тотчас после его визита к ней со всех сторон забежали всевозможные прихвостни и, узнав, что она благоволит к Маршаку, стали относиться к нему с подобострастием.
Менжинская, узнав, что М. был у Крупской, переменила свое обращение с ним и целый час говорила обо мне. Таким образом, когда комиссия к шести часам собралась вновь, она была 1) запугана слухами о протесте писателей, о нажиме Федерации и пр. 2) запугана письмом Горького, 3) запугана тем влиянием, которое приобрел у Крупской мой защитник Маршак,— и судьба моих книжек была решена... Я, превозмогая болезнь, написал какую-то бумагу, где защищал свои книги (очень вежливо) — и на мое счастье <...> «Венгрова не было, воздух был чище!»—выразился Маршак. В этом чистом воздухе и происходил бой. Вначале черносотенные элементы комиссии не пожелали рассматривать мои книжки — но большинство голосов было за. Черносотенцы говорили: нужно разбирать Чук. во всем объеме, но Маршак указал, что и так все это дело тянется несколько месяцев — и надо положить ему конец. Маршак сразу из подсудимого стал в комиссии ее вдохновителем. Когда Менж. позвали к телефону, он замещал ее как председатель. При содействии Фрумкиной прошла «Путаница», прошел «Тараканище». Самый страшный бой был по поводу «Мухи Цокотухи»: буржуазная книга, мещанство, варенье, купеческий быт, свадьба, именины, комарик одет гусаром... Но разрешили и «Муху» — хотя Прушицкая и написала особое мнение. Разрешили и «Мойдодыра». Но как дошли до «Чуда-дерева» — стоп. «Во многих семьях нет сапог,— сказал какой-то Шенкман,— а Чуковский так легкомысленно разрешает столь сложный социальный вопрос».
Но запретили «Чудо-дерево» в сущности потому, что надо же что-нб. запретить. Неловко после огульного запрета выдать огульное разрешение! Закончив «борьбу за Чуковского», Маршак произнес краткую речь:
— Я должен открыто сказать, что я не сочувствую запретительной деятельности вашей комиссии. Рецензии ваши о книгах были шатки и неубедительны. Ваша обязанность стоять на страже у ограды детской литературы и не пускать туда хулиганов и пьяных... Уже решено ввести в комиссию Вересаева, Пастернака, Асеева, Льва Бруни.
Все это я знаю со слов Маршака. Он рассказал мне про это у Алексинских на большом диване, куда вернулся после заседания ГУСа. По поводу разговора с Крупской он вспоминает, что несколько раз назвал Крупскую «милая Надежда Константиновна, а раз, когда ему захотелось курить,— попросил позволения пойти за спичками. <...>
14 мая. Вчера глупые обвинения Максимова, присланные мне из Конфликтной Комиссии Союза писателей. Взволновался — писал полночи ответ. Чтобы отвлечься, пошел к Сейфуллиной — больна, простужена, никакого голоса, удручена. В квартире беспорядок, нет прислуги. «Развожусь с Валерьяной (Правдухиным)!» Я был страшно изумлен. «Вот из-за нее, из-за этой «рыжей дряни»,— показала она на молодую изящную даму, которая казалась в этой квартире «как дома». Из дальнейшего разговора выяснилось, что Валерьян Павлович изменил Сейфуллиной — с этой «рыжей дрянью», и С., вместо того чтобы возненавидеть соперницу, горячо полюбила ее. Провинившегося мужа услали на охоту в Уральск или дальше, а сами живут душа в душу — до его возвращения. «А потом, может быть, я ей, мерзавке, глаза выцарапаю!»—шутливо говорит Л. Н. У Сейф. насморк, горло болит, она говорит хриплым шепотом, доктора запретили ей выступать на эстраде целый год, она кротко говорит про рыжую: «Я вполне понимаю Валерьяна, я сама влюбилась в нее». Рыжая смеется и говорит: «Кажется, я плюну на все и уйду к своему мужу... хотя я его не очень люблю». Она родная сестра Дюкло, «отгадчицы мыслей» в разных киношках,— и сама «отгадчица» — «в день до 40 рублей зарабатываю — но надоело, бездельничаю, ну вас, уйду от вас... не к мужу, а к другому любовнику».— «Душенька, останьтесь,— говорит Сейфуллина,— мне будет ночью без вас очень худо». Отгадчица осталась. Сейфуллина смеется:
— В первое время она, бывало, храпит во всю ивановскую, а я не сплю всю ночь напролет, бегаю по комнате, курю, а теперь я сплю, как убитая, а она не спит... лежит и страдает...
Но это едва ли. Откуда Сейфуллина может знать, что делает рыжая, если она, Сейф., спит «как убитая»!
15 мая. Ночь. Не сплю. Сегодня увидел в трамвае милую растрепанную Ольгу Форш. Рассказывала об эмигрантах. Ужаснее всех — Мережковские — они приехали раньше других, содрали у какого-то еврея большие деньги на религиозные дела — и блаженствуют. Заразили своим духом Ходасевича. Ходасевич опустился — его засасывает. С нею и Лелей Арнштамом к Сейф. С.— одна. Рыжая уехала. Сегодня она была у Семашки, который повез ее в клинику и выдал ей бумаги для поездки в Вену. Форш очень забавно назвала Бабеля помесью Грибоедова и Ремизова без женского участия. Когда С. сказала ей, что ей трудно писать, т. к. она, Сейфуллина, стала стара, Форш сказала:
— И, мать моя, разве этим местом ты пишешь.
Форш хочет написать хронику Дома Искусств «Ледяной корабль». Очень была рада, когда увидела Лелю Арнштама. Ах, как не хорошо, что я пробездельничал весь вечер и теперь не сплю.
20.V.1928 г. Оказывается, я заболел ларингитом. Жар уже 5-е сутки. В жару писал возражение на глупейшие обвинения, выдвинутые против меня Евгеньевым-Максимовым. Читаю «Современник» 50-х годов.
Был у меня сейчас Тынянов — читал конец своего романа о Мухтаре — отличный. Я очень рад за него.