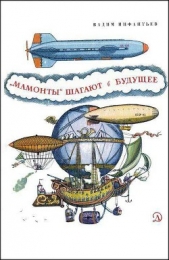Мамонты
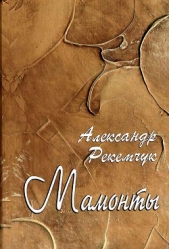
Мамонты читать книгу онлайн
Это — новая книга писателя Александра Рекемчука, чьи произведения известны нескольким поколениям читателей в России и за рубежом (повести «Время летних отпусков», «Молодо-зелено», «Мальчики», романы «Скудный материк», «Нежный возраст», «Тридцать шесть и шесть»).
«Мамонты» — главная книга писателя, уникальное эпическое произведение, изображающее судьбы людей одного семейного рода, попавших в трагический круговорот событий XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я был в совершенном восторге от того, что увидел, ликовал всей душою, сознавая, как мне повезло, как мне посчастило воочию увидеть то, что другие видели лишь на портретах.
Я уже представлял себе, как нынче вечером, за обедом — мы обедали вечером, — расскажу отцу про то, как видел Ворошилова с Буденным.
Я даже представил себе, как он усмехнется, слушая мои россказни, предполагая, что я всё это выдумал. Почему-то он считал меня выдумщиком, хотя, вместе с тем, мне казалось, что ему это нравится — что я выдумщик.
Но я же видел своими глазами!..
Впрочем, до вечера еще далеко.
А поведать ли мне об этом, о том, что я видел своими глазами — про Ворошилова, про Буденного, — рассказать ли об этом Лидии Михайловне и Володе, вот прямо сейчас, когда я вернусь с улицы в пещеру, в мастерскую?..
И тут меня будто обухом стукнуло по голове.
Я сразу же позабыл и о Ворошилове, и о Буденном, и о съеденном мороженом.
Я вдруг догадался, что меня подло обманули. Что меня только что — лишь полчаса назад — купили за копейки, за мороженое.
Что меня нарочно отвлекли от декораций театральной сказки, от синих волн, от куполов, от теремов на берегу моря. Спровадили из пещеры, с глаз долой.
А сами остались там, вдвоем, и, наконец-то избавясь от меня, сидят у макета и, хохоча, крутят заветный рычажок.
Время обнажило всю бездоказательность моих подозрений.
В архивной папке, в личном деле отца, я обнаружил документ, подписанный начальником Иностранного отдела ГПУ УССР Карелиным и его помощником Самойловым, где говорилось:
«…Следует отметить, что раньше на „Кирееве“ сказывалось отрицательное влияние его бывшей жены, которая любила жить на широкую ногу, склоняя к этому и „Киреева“.
Теперь (после развода) „Киреев“ вновь женился и попал в здоровую семейную обстановку, что окончательно выправляет указанные нами его отрицательные стороны».
Чтоб никто не усомнился в этом, строка «…попал в здоровую семейную обстановку…» подчеркнута синим карандашом, а сбоку, тем же синим, сделана приписка: «Брак зарегистрирован 17.Х. 1933 с Бурштейн Л. М.».
Отказ
С утра пораньше отправился в Кремль.
Именно там в этот зимний день — 3 декабря 1982 года — должен был состояться Объединенный пленум творческих союзов: писатели, композиторы, художники, кинематографисты, все тут.
Официальным поводом для такого почтенного собрания было 60-летие провозглашения СССР (десятью годами раньше столь же светлый праздник я, помнится, справлял в святых местах, в Ливане).
Однако все догадывались, что есть тут и другая важная подоплека.
Только что умер Брежнев, истекло застойное царствование «бровеносца». А перед тем в кремлевской стене замуровали останки сурового партийного идеолога Суслова. К власти пришел Андропов, человек с Лубянки… Что сулят эти новые времена?
Вот и решили устроить проверку: с кем вы, мастера культуры?
Мастера культуры топали к кремлевским воротам от ближайших станций метро: кто с «Охотного ряда», кто с «Библиотеки имени Ленина», а кто прямо из дому — посчастило жить неподалеку.
На ходу обменивались рукопожатиями, кивками.
Вот шествует знаменитый песенник Никита Богословский, автор хватающей за душу «Темной ночи», озорных одесских «Шаланд», он написал песни и к моему фильму «Берега»; а вот живописец Таир Салахов, с которым мы кочевали вместе по монгольским степям; а вот долговязый и надменный, как верблюд, Евгений Евтушенко, с которым мы то ли давние друзья, то ли давние недруги — утешаю себя тем, что это, по сути, одинаково.
Я поднимался к Троицким воротам от нарядной, как кремовый торт, Кутафьей башни — по мосту с зубчатой каменной оградой, перекинутому над голыми верхушками Александровского сада.
Еще издали увидел старушку, божий одуванчик, крохотную ростом, но грузную, поперек себя шире, которая, едва переставляя ноги, карабкалась по брусчатке к державным воротам.
Я не только увидел, но и узнал ее издали, со спины. Еще раз подивился тому единодушию, с каким люди, знававшие ее в младые годы, восхищались не только ее талантом, но и красотою, стройностью, грацией… ах, Верочка! ах, Вера Павловна! ах, Строева!
Я знал ее со своих младенческих лет, с незадавшихся детских проб на Одесской киностудии — она уже и тогда была режиссером. И позже, в пору моих невзгод, связанных с судьбой отца, когда я приехал с Севера и поведал ей, что в Воркуте встретил расконвоированного зэка Каплера, автора «Ленина в Октябре». И еще позже, когда работал на «Мосфильме», и она позвала меня смотреть отснятый материал фильма «Мы — русский народ»…
Я догнал ее. Не окликая, взял под локоток, притиснул к себе, чтобы помочь одолеть этот крутой подъем к арке ворот, к зубчатым стенам, к часовым, отбивающим чечетку на морозце.
Странно — или наоборот, ничего странного в том не было, — но она даже не стала приглядываться, кто это к ней вдруг прилип, явился на подмогу. Даже пренебрегла обычным «здрасьте». Как будто обо мне лишь и думала всю дорогу.
И сразу же, подняв свои фиалковые глаза, продолжила, как ни в чем не бывало, беседу, словно бы начатую только что.
— У вас случайно не сохранился киносценарий «Сигуранция», который мы писали вместе с вашим папой?
Я не стал объяснять ей, что не сохранилось ничего. Что остался лишь Георгиевский крест на оранжево-черной ленте, добытый отцом в бою. Что не осталось даже ни одной его фотографии, вот где бы взять, где найти?..
Еще я, походя, отметил, что она сказала не «Сигуранца», а «Сигуранция», как и он произносил это зловещее слово.
И еще я подумал, что у мамы, наверное, были основания для холодка в тоне, когда она рассказывала мне о том, как вечерами мой отец уединялся где-то с Верой Павловной Строевой, они, видите ли, вместе писали сценарий…
И еще я предположил, что уж если этот затерявшийся киносценарий был посвящен секретам служб, подобных Сигуранце, то уж наверняка у нее, у Веры Павловны, было достаточно оснований сказать мне однажды полушепотом: «Зорге был щенок в сравнении с вашим отцом!..»
Но тут она вдруг остановилась, не дойдя до часовых, опять подняла на меня фиалковые свои глаза, в которых я впервые увидел отчаянную боль. Нет, не боль душевных терзаний, которую все мы, лучше или хуже, научились прятать. А самую что ни на есть натуральную боль сердца, железной хваткой сжимающую сосуды, клапаны, мышцы. Ее рука, помимо воли, тянулась к груди, к области сердца. Она пыталась смягчить этот конфуз улыбкой, но и улыбка была отражением боли…
Я не мог ей ничем помочь. Разве что взвалить на плечо и внести в Кремль? Но это было уж и мне не по годам, не в силу.
Следовало перестоять на месте сердечный приступ, отдышаться, отдохнуть. Ведь у нас в запасе еще было минут двадцать до начала торжественного заседания.
И еще нужно было отвлечь ее от этой боли каким-нибудь сторонним разговором.
У меня как раз была в запасе подходящая тема.
— Вера Павловна, недавно я получил письмо от бывшей жены моего отца…
— От той, которая в Париже? — живо отозвалась она.
— Нет. Не от первой, а от третьей, последней. От той, которая в Красноярске. От Лидии Михайловны Бурштейн… После его ареста она уехала из Киева в Красноярск, и там пересидела войну и всё остальное, она живет там уже много лет, работает на местном телевидении…
— И что же она вам написала?
— В ее письме есть такие строчки: «…Непосредственным поводом к аресту Е.Т. была его поездка в начале 1937 года в Москву, где ему предлагалось задание, от которого он отказался. Будучи в Москве, он был в гостях у Григория Львовича и Веры Павловны, они пили чай, и он им кое-что рассказал…»
Этот текст врезался в мою память столь четко, что я пересказывал его почти дословно.
Более того: я помнил даже почерк этого письма — крупный, торопливый, сдерживаемый лишь слепотою глаз, дрожаньем руки и еще, вполне очевидно, изломанный болью, может быть такой же острой болью стиснутого сердца, как та, что сейчас остановила мою собеседницу на самом подходе к Большому Кремлевскому дворцу.