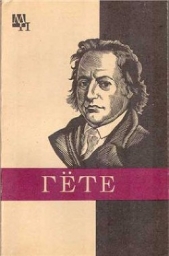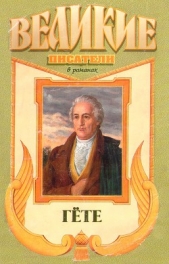Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни

Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И без того в построении сюжета гётевской «Ифигении в Тавриде» вовсе не все так уж ясно и понятно, как то желает представить расхожее мнение о гуманности образа Ифигении. Тантал по–прежнему не избавлен от проклятья — тот, кому сострадает Гёте и кто с олимпийцами «вел себя недостаточно подчиненно». И «песня парок» тоже еще не завершающий аккорд; она, скорее, напоминает о том, что не стоит предавать забвению по–прежнему возможный произвол богов, что надо противоборствовать им. Так на заднем плане возникает намек на угнетение и бунт.
509
Далеко не отошла от реальности пьеса, задуманная как образец для подражания. Даль мифа и искусный язык белого пятистопного ямба создают определенную дистанцию, которая помогает осознать, что здесь представлено не истинное положение вещей, а то, как все может и должно быть. Вот в какой степени сама тема пьесы и ее воплощение достаточно серьезно подчеркивают содержащуюся в ней основную мысль. Она либо может оказать требуемое действие, либо на нее остается лишь дивиться, как на прекрасную, но далекую от реальности схему. Уже после премьеры прозаического варианта пьесы ее автор записал в дневнике: «Сыграли Иф.[игению]. Довольно хорошее воздействие, особенно на чистых людей» (дневник, 6 апреля 1779 г.). Через два дня в дневниковой записи содержится примечательная оговорка: «Несправедливо сомневаться в способности человека чувствовать и понимать; здесь можно верить, что люди способны на многое; но вот на их поступки не стоит рассчитывать». Гёте довольно критично оценивал свою драму. Когда в 1802 году он «тут и там просмотрел ее», она показалась ему «дьявольски гуманной» (письмо Шиллеру от 19 января 1802 г.). При беглом «просмотре» он, пожалуй, увидел, что образы основных героев, Ореста и Ифигении, позволяют слишком легко разрешить конфликты, так что личность здесь даже чересчур застрахована от неудачи, едва ее устремления оказываются гуманными.
«Эгмонт»
Работа над «Эгмонтом» растянулась у Гёте на многие годы. Наконец 15 и 18 августа 1787 года он мог сообщить Гёшену и Филиппу Зайделю: ««Эгмонт» готов!» Завершить это произведение, как писал он в «Итальянском путешествии» 3 ноября того же года, было невыносимо трудным делом, которое «никогда бы не выполнить, не будь у меня неограниченной свободы жизни и духа. Подумайте, что это значит: взяться за пьесу, написанную двенадцать лет назад, и завершить ее без всяких переделок» (ИП, 191). Значит, эта драма была вместе с ним все десять веймарских лет до путешествия в Италию, и когда в 1778 году он писал о своей поездке в Берлин, что, «как кажется, все больше уясняю я себе суть драматургии», поскольку теперь его все больше занимало то, «как великие мира сего играют судьбами людей, а боги — судьбами великих»
510
(письмо Шарлотте фон Штейн от 14 мая 1778 г.), то подобные представления и этот жизненный опыт могли стать составной частью именно пьесы о жизнелюбивом, доверяющем своей судьбе графе Эгмонте, жизнь которого оборвалась из–за смертного приговора, вынесенного ему испанскими властителями. «Ифигения» и «Эгмонт» — Гёте посвятил всего себя этим двум творениям в один и тот же жизненный период, в тех же самых жизненных обстоятельствах, но облек их в совершенно различную форму.
Первое из них — пьеса на античную тему, почти что торжественное сочинение «на случай», противопоставлявшее мир искусства убожеству повседневной действительности, — было образцом драмы, в которой одна сцена за другой концентрировались в единстве места, времени и действия и в которой использовался торжественный поэтический язык, не допускающий и мысли о просторечии. В «Эгмонте» же, наоборот, — богатство эпизодов, непринужденное чередование явлений, сцен с участием простолюдинов и безыскусный, взятый из жизни язык героев. Гёте–драматург здесь снова и снова воплощал в жизнь то, чему, как он полагал, научился у Шекспира, что опробовал на примере драматической последовательности сцен в «Гёце».
К пасхе 1788 года Гёшен выпустил пятый том «Сочинений» Гёте, а в сентябре «Альгемайне литературцайтунг», издававшаяся в Йене, напечатала подробную рецензию на «Эгмонта», где вначале упоминались известные нам обстоятельства: «Сей пятый том сочинений Гёте, украшенный виньеткой и гравюрой на титуле, которая была нарисована Анжеликой Кауфман и выгравирована в Риме Липсом, содержит, помимо совершенно неизвестной пьесы «Эгмонт», два уже хорошо знакомых публике водевиля — «Клаудина де Вилла Белла» и «Эрвин и Эльмира», — которые оба переложены теперь в ямбы и вообще сильно отличаются от изначального текста».
Написал эту рецензию не кто иной, как Фридрих Шиллер (он тогда еще не был лично знаком с Гёте). Опираясь на свои теоретические посылки о видовых особенностях драмы, он стремился осмыслить характерные отличия новой пьесы. Согласно мысли Шиллера, материал для драматурга, пишущего трагедию, — в этом главное отличие — дают либо «исключительные события и ситуации», либо «страсти», либо «выдающиеся личности». Пусть нередко «все три этих элемента окажутся собраны в одной пьесе, соотносясь друг с
511
другом как причина и следствие, но все же неизменно то один из них, то другой становился по преимуществу исключительной целью изображаемого». Античные драматурги, по мнению Шиллера, «почти все ограничивались изображением трагических обстоятельств или игры страстей». Поэтому, продолжал он, у них так «мало индивидуального, подробностей и четких характеристик». Трагедию лишь в новое время, и то лишь после Шекспира, обогатил третий вид драматургического жанра. «В Германии один автор «Гёца фон Берлихингена» дал нам первый образец такого рода».
«К этому же роду трагедий принадлежит и сия последняя пьеса […]. Здесь нет ни выдающегося события, ни всепоглощающей страсти, ни сложной ситуации, ни драматургического замысла — ничего, подобного этому; здесь лишь нанизано множество отдельных событий и картин, и они не скреплены между собою почти ничем, кроме личности главного героя, который принимает участие в судьбах всех остальных действующих лиц и на которого все они так или иначе равняются. Единство этой пьесы, следовательно, заключается не в ситуациях, не в каких–либо страстях — оно кроется в личности героя».
За двести лет, что прошли с тех пор, многие анализировали «Эгмонта», но эта мысль первого рецензента пьесы, которую многие разделяли, стала классической: именно Эгмонт — тот герой пьесы, кто создает ее цельность, связывает воедино все составные части трагедии.
Эгмонт вовсе не появляется в первых трех сценах («Состязание в стрельбе», «Дворец правительницы» и «Бюргерский дом»), но уже в них он предстает незримым центром пьесы, к которому все тяготеют, и он все время незримо присутствует на сцене. Бюргеры им восхищаются: «Почему все у нас привержены графу Эгмонту? Почему его мы чуть ли не на руках носим? Да потому, что он желает нам добра, потому, что веселость, широта и благожелательность у него на лице написаны, потому, что нет у Эгмонта ничего, чем бы он не поделился с тем, у кого в этом нужда, да и без особой нужды тоже» (4, 267). А Маргарита Пармская, правительница Испанских Нидерландов, сомневаясь, что поведение Эгмонта вызовет благоприятные политические последствия, удивлена его уверенностью в себе и относится к этому с подозрением: («[…] высоко держит голову, не помня о том, что и над ним простерта длань его величества» — 4, 275), однако ей приходится выслушать из уст своего секретаря Макиавел–512
ли такие слова: «Взоры всего народа устремлены на него, все сердца ему преданы» (там же). И жизнь бюргерской девушки Клэрхен (Клары) перевернулась с той поры, как она стала возлюбленной этого нидерландского графа: «Эта комната, этот домик — рай с тех пор, как здесь живет любовь Эгмонта» (4, 280). Свое восхищение и приверженность, свое уважение и недоверие, свою безграничную любовь — все эти чувства герои пьесы выражают по отношению к человеку, о котором в первых явлениях лишь говорится. Уже в первом действии Гёте дает понять, какими качествами, как он сам писал об этом в «Поэзии и правде», он наделил своего героя: «Необузданное жизнелюбие, безграничная вера в себя, дар привлекать все сердца (attrattiva), а следовательно, и приверженность народа, тайную любовь правительницы и явную — простой девушки…» (3, 651).