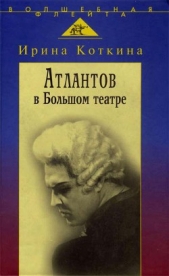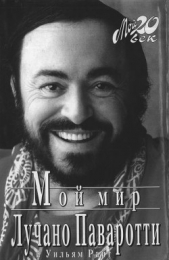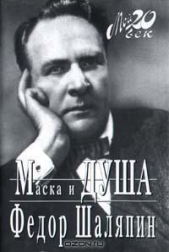Записки оперного певца
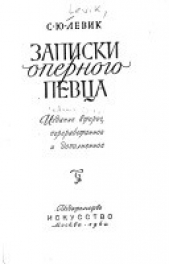
Записки оперного певца читать книгу онлайн
Сергей Юрьевич (Израиль Юлианович) Левик (16 [28] ноября 1883, Белая Церковь — 5 сентября 1967, Ленинград) — российский оперный певец-баритон, музыковед и переводчик с французского и немецкого языков.
С девяти лет жил в Бердичеве. С 1907 года обучался на Высших оперных и драматических курсах в Киеве. С 1909 года выступал на сцене — Народного дома Товарищества оперных артистов под управлением М. Кирикова и М. Циммермана (затем Н. Фигнера и А. Аксарина), Театре музыкальной драмы в Петрограде. Преподавал сценическое искусство в Ленинградской консерватории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Затем он спел еще какой-то отрывочек. Он не сделал ни одного жеста, и этот показ был свидетельством того, что вся его игра — это в первую очередь его пение. Невзирая на мою любовь к трактовке Вагнера именно тенором, о котором шла речь, я все же пришел в восхищение и пролепетал:
— А почему же вы не поете Вагнера?
— Не люблю. А для нашего разговора и не существенно. Вот так, по-моему, нужно петь Вагнера, а не так.
И, шаля, как ребенок, он в пении так окарикатурил тенора, что я хохотал от всей души, хотя совершенно не был с ним согласен. И опять-таки пел он без единого жеста. Одной фразировкой он создал тот, по его мнению, напыщенной образ, над которым хотел поиздеваться. Все
<Стр. 504>
исполнительское существо тенора было видно как на ладони... И тут я понял те причины, по которым Шаляпин не пел Вагнера и о которых я говорил выше.
9
Но не одного только Вагнера Шаляпин не пел. Часто высказывая большую любовь к Римскому-Корсакову, Шаляпин отказывался петь Дадона и Салтана. Нетрудно себе представить, какие он с присущим ему комическим талантом создал бы незабвенные образы. Но он не захотел. Не пел он никогда и Кочубея в опере Чайковского «Мазепа». Казалось бы, что могло быть для него более привлекательно, чем этот насыщенный трагическими интонациями образ страдальца?
Нельзя не жалеть о том, что Шаляпин не полностью исчерпал весь русский басовый репертуар, еще и потому, что, как ни были глубоки, сильны и разветвлены корни русского певческого мастерства до него, как ни примечательны были черты, привнесенные в это пение со времен М. И. Глинки через О. А. Петрова, Д. М. Леонову и других, все же несомненно, что именно Шаляпин решительно и резко утвердил у нас приоритет русского осмысленно-эмоционального пения перед чисто виртуозной техникой. До него только выдающиеся русские певцы преодолевали специфические навыки дурной итальянщины, в то же время используя все достижения итальянской вокальной школы. Зато вскоре после появления на русской сцене Шаляпина даже «меньшие боги», вроде Шевелева, Секар-Рожанского и других певцов, отличных, но не настолько крупных, чтобы претендовать на самостоятельное слово в искусстве, — даже, говорю я, «меньшие боги» стали смело пропагандировать русское пение.
Для того чтобы подойти к этому заключению, я и привел эпизоды из биографии Шаляпина в том аспекте, в каком я их своим певческим восприятием осознал, читая все, что им и о нем написано, слушая его рассказы, наблюдая его на сцене и в быту и всегда мысленно к нему возвращаясь и сравнивая со всеми прочими впечатлениями — зрительными и слуховыми,— все то, что этот человек на всю жизнь запечатлел в моей благоговейно благодарной памяти.
<Стр. 505>
Голос, тембры и дикция Шаляпина были таковы, что этих «трех измерений» было достаточно для увековечения его пения в потомстве, если бы даже природа в отношении, так сказать, физического естества его обидела. То есть, если бы у него не было этого большого лица, которое одинаково легко было гримировать под лица царей и дьяволов, пьяниц и вельмож, преступников и философов; ни этой, по выражению Стасова, «великанской фигуры», которая в гибкости и скульптурности могла соперничать с любым балетным артистом; «ни этих рук, пальцы которых так выразительно разговаривали языком угрозы и подхалимства, пристрастия и величия, хитрости и ласки».
Станиславский требовал, чтобы пальцы «звучали». Я должен отметить, что ни у кого другого я таких «звучащих» пальцев, как у Шаляпина, не видел.
Без грима и костюма Шаляпин умел в любом концерте показать такой калейдоскоп образов, что иной раз, особенно при резком переходе в бисах от какого-нибудь «Ночного смотра» к «Титулярному советнику», слушатель ощупывал себя: а не происходит ли все это во сне?
Всеми своими дарами Шаляпин пользовался с неповторимым мастерством и тактом.
Вспомним, как он выходил в сцене коронации в роли царя Бориса, и сравним с его же выходом в сад в роли короля Филиппа в вердиевской опере «Дон Карлос». И тот и другой грозные властелины необозримых земель. У того и другого (по опере, во всяком случае) руки в крови. У обоих вера в свое божественное призвание, в свои безграничные права над человеческой жизнью.
Но Борис идет на царство, желая возвеличения своего государства. Он не замышляет никаких козней против остального мира. Он стоит перед великой задачей спасти Русь от смуты, народ от бедствий. Сможет ли он справиться с этой огромной задачей? И Шаляпин — Борис шествует величаво, но спокойно, без наглой спеси. Он истово молится, так как верит, что совершил свое преступление для блага страждущей родины, и надеется на отпущение грехов. И только тогда, когда, помолившись, он уверовал в успех своего дела, он просветленным голосом и мягкими, хотя и величаво-царственными жестами велит сзывать «народ на пир, всех: от бояр до нищего слепца». При этом он нежный отец: он будет скорбеть о несчастной дочери Ксении, у которой «смерть уносит жениха»,
<Стр. 506>
радоваться увлечению сына науками, он без колебания готов будет отдать ему царство.
Совсем не то Филипп Кровавый («Дон Карлос» Верди). По определению его сына, он «государь отчаяния и страха». Он боится сына и воюет с ним, ревнует к нему свою молодую жену и будет пытаться убить его. Он жаждет власти над миром, он поражен тем, что на его пути могут встать какие-то препятствия...
Какие разные коллизии дали гениальный Пушкин в Борисе Годунове и французский либреттист Дюлокль в «Дон Карлосе»!
Но и несоизмеримую по глубине музыку создали Мусоргский и Верди. А ведь Шаляпин один, он тот же, тот самый Шаляпин, которого, по его собственному выражению, бывает «так трудно спрятать», чтобы создать нужный образ. И как же ему замечательно удавалось рисовать образы совершенно разных царей!
Один преисполнен трагедийного начала, во всем облике величавый страдалец; другой — старый сластолюбец, жесток ради жестокости и холодно чинит свой суд-расправу. Когда Шаляпин — Борис грозит придумать Шуйскому «такую казнь, что царь Иван от ужаса во гробе содрогнется», он сам захвачен трагизмом этой коллизии. Но когда подобные угрозы произносит Шаляпин — Филипп, он только мститель и ничего больше.
Шаляпин давал этим людям не только разные облики, не только другую походку, даже руки у него были разные — одни для Бориса и совершенно другие для Филиппа: мягко-величавые у первого, цепко-жестокие у другого.
Шаляпин был очень чувствителен к реакции зала. В сцене в саду в «Дон Карлосе» он очень медленно выходил из крайней кулисы. Встречали его не очень пламенно. Но вот он по диагонали переходит сцену к первой кулисе, медленно и тяжело ставит свою суковатую палицу на скамейку, обводит сцену тяжелым взором, озирается, делает паузу и издает еле слышный вздох. Публика на секунду цепенеет и внезапно взрывается громом аплодисментов.
На одном из спектаклей публика отозвалась обычной овацией, но почему-то не такой единодушной.
Когда я в антракте подошел к уборной Шаляпина, Дворищин встретил меня у входа и с отчаянием во взоре прошептал:
— Не ходите, пауза погорела.
<Стр. 507>
Я не понял, и он объяснил. Когда Шаляпин услышал, что аплодисментов мало, он бросил стоявшему в кулисе Аксарину: «Пауза погорела», а теперь сидит злой и обиженный, лучше к нему не ходить.
Видеть Шаляпина на репетициях мне не довелось, и о том, как он работал над ролью, я знаю только понаслышке, О его любви к работе рассказывались легенды.
Об одном репетиционном моменте, подробно записанном одним из моих друзей, я все же позволю себе поведать и моим читателям.
Идет оркестровая репетиция «Дон Карлоса». Шаляпин — Филипп в полном королевском облачении склонился над столом и рассматривает карту своих грабительских фронтов. Догорающие светильники, слабо борясь с пробивающейся сквозь оконный витраж зарей, бросают причудливый свет на уставшее от бессонницы лицо кровавого монарха. Вся обстановка готовит зрителя к тому, что Филипп погружен в государственные дела. Но вот Шаляпин медленно подымает голову. Глаза устремлены в бесконечную даль. И вдруг реплика, как бы спросонья: «Нет, я ею не был любим, мне сердце свое отдать она не могла». Простой речитатив, бесцветное тремоло в оркестре, а интонации шаляпинского голоса полны глубокого человеческого страдания. И зритель не в состоянии побороть свое сочувствие к этому постаревшему человеку, которого он только что ненавидел и проклинал за звериное сердце.