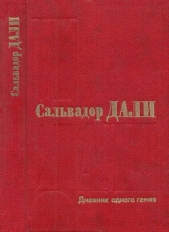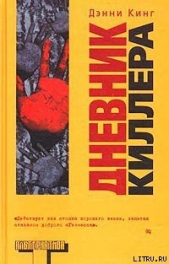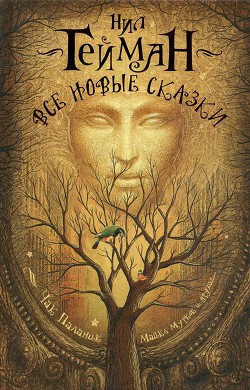Дневник (1901-1929)

Дневник (1901-1929) читать книгу онлайн
Трудно представить себе, что дневник пишут, думая, что его никто никогда не прочтет. Автор может рассчитывать, что кто-нибудь когда-нибудь разделит его горести и надежды, осудит несправедливость судьбы или оценит счастье удачи. Дневник для себя - это - в конечном счете - все-таки дневник для других
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Читал о Горьком третьего дня в Центральном Доме Искусств. Читал иронически, а все приняли за пафос — никаких оттенков не воспринимает дубовая аудитория.
Видел Слонимского: желто-зеленый опять. У него вышла повесть «Средний проспект», где он вывел какого-то агента; Гублит разрешил повесть, ГИЗ ее напечатал, а ГПУ заарестовало. Теперь это практика: книгу Грабаря конфискуют с книжных прилавков. Поэтому Чагин сугубо осторожен с моей книжкой «Маленькие дети», которую в Гублите разрешили еще 15-го. Он повыбросил ряд мест из разрешенной книжки — «как бы чего не вышло».
Хулиганская афера «Огонька»: предложил мне достать письма Льва Толстого к Дружинину и редактировать их, а когда я достал, сделал попытку прогнать меня от этих писем. Но я свел Дружинина с Чагиным, и сегодня мы туда едем: не купит ли Чагин писем Толстого для «Минувших Дней».
21 января. Вчера был у меня Слонимский. Его «Средний проспект» разрешен, он принес книжку. Но рассказывает мрачные вещи. Главлит задержал Сельвинского «Записки поэта». Потом выпустил. Задержали книгу Грабаря. Потом выпустили. В конце концов задерживают не так уж и много, но сколько измотают нервов, пока выпустят. А задерживают не много потому, что все мы так развратились, так «приспособились», что уже не способны написать что-нибудь не казенное, искреннее.— Я, говорил Миша,— сейчас пишу одну вещь — нецензурную, для души, которая так и пролежит в столе, а другую для печати — преплохую.— Я рассказал ему историю с моим «Крокодилом». Полгода разные учреждения судят об нем, а покуда книги нет на рынке,— и что за радость, что книгу теперь разрешили; кто вернет мне те убытки, которые нанесены мне ее полугодовым отсутствием на рынке! Слонимский рассказывает, что несомненно некоторые неугодные книги нарочно не распространяются под воздействием политконтроля. Напр., «Конец Хазы» Каверина. Всю книгу нарочно держат на складе, чтобы она не дошла до читателя. Я думаю, что это не верно. «Конец Хазы» и сам по себе может не идти. Но что мы в тисках такой цензуры, которой никогда на Руси не бывало, это верно. В каждой редакции, в каждом изд-ве сидит свой собственный цензор, и их идеал казенное славословие, доведенное до ритуала.
Поговорив на эти темы, мы все же решили, что мы советские писатели, т. к. мы легко можем себе представить такой советский строй, где никаких этих тягот нет, и даже больше: мы уверены, что именно при советском строе удастся их преодолеть. Миша очень мил; мы были ему искренне рады. <...>
22 января. Вчера вечером получил из Москвы два экземпляра нового «Крокодила» —на плохой бумаге: цена 1 р. 50 к. В чем дело, не знаю, письма при этом нет. Был часа два или три в рукописном отделении Пушкинского Дома — смотрел письма Н. Успенского. Ах, это такой отдых от Клячки, Госиздата, «Красной Газеты» — тихо, люди милые, уют — и могильное очарование старины. Жаль только, что Пушкинский Дом так далеко — вчера я сдуру сменил 4 трамвая, покуда доехал. И холодно. Между прочим мне дали там повестку на заседание группы Журналистики, Критики и Публицистики. Предметы занятий: «Доклад Е. В. Базилевской: «Некрасов в редакции К. И. Чуковского». В Пушкинском Доме пропал патриархальный строй, отношения оказенились, но осталось общее чаепитие сотрудников, связанных между собой любовью к делу и давнишним служением ему: приходят племянник Достоевского, сын Островского, сын Пыпина, дочь В. Стасова (Комарова), сын П. Анненкова, сын Л. Модзалевского и пр.— и пьют чай из стильных чашек, чай вкусный, пьют весело — и как-то непохоже на нынешний стиль — пьют исторически, пьют по-пушкински.
Вечером, в «Academia» — с Франковским, к-рый очень потрясен рецензией К. Локса о его переводе Пруста. Франковский прочитал свой ответ Локсу — великолепный. Мы вместе с А. А. Кроленко обсуждали этот ответ — и Кроленко сделал целый ряд очень дельных и тонких замечаний. Я сказал ему: «Вы всем хороши, но почему вы не платите денег? Почему ни разу вы не выдали мне 200 рублей?» Он с величайшим простодушием: «вот вы не поверите, но хотя дела у нас идут блестяще, хотя наши книги нарасхват, но мы ни гроша не имеем на текущем счету, потому что задолженность наша огромна: мы расплачиваемся за прежнюю нашу линию — издавать Балухатых и Жирмунских. Вы не поверите, что мне издателъство должно до двух тысяч, и я не могу их выцарапать» и проч.— Вышел у них Ив. Панаев, под редакцией Иванова-Разумника. Разумник прислал мне книгу с надписью: «Редавдотье — Редиван». Книга издана неважно. И хотя Кроленко хочет бежать от издательства, хотя, по его словам, он спит и видит, когда эта обуза спадет с его плеч,— он с болью показывает плохо сверстанные экземпляры Панаева и говорит:
— Нет, следующее издание мы сделаем лучше. Для следующего издания мы закажем обложку на карточной фабрике...
Такими фанатиками работы и пользуется Советская власть. Их гнут, им мешают, им на каждом шагу ставят палки, но они вопреки всему отдают свою шкуру работе.
У Бобы большое горе: с августа до сего дня он вместе с Женей Штейнманом строит буер. Это была героическая, творческая, грандиозная работа. Они стали завсегдатаями Предтеченского рынка: высматривали, как бы по дешевке купить бревна, гайки, железные скрепы, паруса и проч. Купили бревна невероятной толщины; как они довезли их до нашей квартиры, непостижимо никакому уму. Целую зиму они до последнего поту трудились над этими бревнами, тесали их, стругали, оболванивали. Целую зиму они скрепляли их железными полосами. Откуда-то достали три конька невероятной тяжести — которые сами вырезали из толщенного железа, и когда все это было готово, когда сшит и выстиран парус, когда буер в виде огромного треугольника занял всю Бобину комнату,— решили позвать Бориса Житкова, который и научил их построить этот буер. Я настоял на том, чтобы кроме Житкова позвать и Н. Е. Фельтена, живущего в двух шагах от меня — в том же доме, где аптека Тува и Маршак. Фельтен пришел раньше Житкова. Это коренастый бритый человек с открытым лицом, глухой, очень говорливый, рисующийся своей любовью к морю, Толстому и буеру. Буерист он первоклассный, второго в России такого и нет. Глянул он на Бобин буер (а Боба был у Жени) и сказал:
— Бедные, бедные дети. Что же теперь будет...
И стал говорить шепотом, как будто случилось несчастье.
Оказалось, что буер построен нелепо, безумно. Мальчики потратили вдесятеро больше работы, чем нужно. Буер строится из досок, а не из бревен. Коньки должны быть деревянные, обитые железом, а не стопудовые полозья. «Если они явятся с таким буером на взморье, их засмеют. Это все равно, что вместо автомобиля выехать на улицу в старинном рыдване. И зачем им этот рыдван, когда автомобиль построить дешевле, скорее, легче!»
Тут пришли мальчики. Фельтен высказал им свое мнение. Они смотрели на него насупленно, но бодро. Они были уверены, что Борис Житков придет и в одно мгновение сразит дерзновенного критика.
Звонок. Житков. Фельтен прямо без обиняков выложил ему все что думает. Житков глухим и тихим голосом стал пренебрежительно возражать. Ф. по глухоте не слышал и переспрашивал, но Ж. не удостоил его более громких ответов. Замяв вообще разговор о буере, он отвел меня в сторону и стал говорить о Бианки. Я видел, что ему мучительно неловко, что с буером он осрамился и потому усиленно поддерживал разговор о Бианки. Но мальчики не поверили в его поражение. Хотя Фельтен повел нас всех к себе, хотя он показал нам чертежи буеров, хотя он даже подарил мальчикам свой «Торговый флот», где напечатаны статьи о буерах, мальчики стояли за Житкова и к Фельтену относились с угрюмой недоверчивостью. Но вот третьего дня утром Боба вскакивает неодетый с постели и начинает чертить левой рукой какие-то закаляки на бумаге. «Боба, что ты делаешь?» Он застыдился. Гляжу: это чертеж буера «по Фельтену». «А как же этот буер?» Молчит. Они с Женей сделали последнюю попытку исправить житковский буер: распилили вдоль одно бревно, но это отняло у них часов 7 и не привело ни к чему. «Все надо новое, это никуда не годится!» — решил Боба, но такое решение стоило ему дорого, т. к. он на старый буер убил всю зиму и мечтал проехаться на нем еще в прошлую субботу.