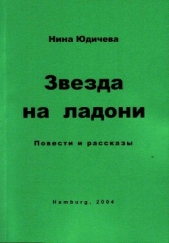Случай Эренбурга

Случай Эренбурга читать книгу онлайн
Илья Эренбург, одна из самых противоречивых фигур в советской литературе и общественной жизни, предстает в этой книге не только прекрасным прозаиком, тонким поэтом и блистательным публицистом, но прежде всего человеком, переживающим драму, поставившим свой талант на службу сталинскому режиму и делающим многое этому режиму вопреки. Размышления автора о жизни и творчестве Эренбурга перемежаются воспоминаниями о встречах и доверительных беседах с ним.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Если раньше нам могло показаться, что страх, который обуял «Эренбурга» (не автора, а одного из персонажей эренбурговского романа) и заставил его спрятаться за тумбу с бюстом Энгельса, был ни на чем не основан, то теперь, после этого заключительного монолога Главного Коммуниста, мы убедились, что боялся его он не зря. И то обстоятельство, что «Великим Инквизитором» оказался тот самый добродушный дядя, неподалеку от которого он, бывало, сиживал в парижском кафе, и то, что, судя по всему, он и в самом деле был искренне удручен той палаческой ролью, которую пришлось взять на себя ему, добродушнейшему и никогда никого не обижавшему человеку, — все это не имеет решительно никакого значения. Страх, который сразу внушил ему этот мягкий, никогда никого не обижавший человек, как выяснилось, был обоснован. И не зря в конце эпизода дрожащего от страха «Эренбурга» охватывает уже не этот комический, казалось бы, ни на чем не основанный страх, а самый что ни на есть настоящий, совсем не комический ужас.
Ну а что касается поцелуя, который Хуренито запечатлел на высоком, крутом лбу кремлевского мечтателя и который мог быть воспринят как знак если не одобрения, то по крайней мере сочувствия его человеческой драме, то и он, этот поцелуй, в финале главы о Великом Инквизиторе вне легенды получает совсем иное, вполне ироническое истолкование:
— Учитель, зачем вы его поцеловали? От благоговения или из жалости?
— Нет. Я всегда уважаю традиции страны. Коммунисты тоже, как я заметил, весьма традиционны в своих обычаях. Выслушав его, я вспомнил однородные прецеденты в сочинениях вашего Достоевского и, соблюдая этикет, отдал за многих и многих этот обрядный поцелуй.
Стараясь восстановить тогдашнее свое впечатление от эренбурговского «Хулио Хуренито», я пересказал (обильно цитируя) далеко не самую яркую его главу. Вряд ли надо объяснять, почему я выбрал именно ее. Но с тем же успехом мог бы, наверно, выбрать любую другую. Велик был соблазн даже пройтись — бегло, конечно, — по всему роману. Но этого я, разумеется, делать не буду. Процитирую еще только одну — совсем короткую — реплику Хулио Хуренито, подытожившую его впечатления о Советской России:
— Один поэт написал книгу «Лошадь, как лошадь». Если продолжать — можно сделать «Государство, как государство»… Французы написали на стенах тюрем: «Свобода — Равенство — Братство». Здесь на десятитысячных ассигнациях, которыми набивают себе карманы спекулянты и подрядчики, революционный клич: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Я не могу глядеть на этот нелетающий аэроплан! Скучно!
Афористическая меткость иронического сравнения итогов Октября с итогами великой революции французов меня восхитила. Но я тут же перевернул этот афоризм. Даже запомнил и цитировал, делясь своим восхищением с друзьями, вот в таком, перевернутом виде:
— Французы написали на деньгах «Свобода — Равенство — Братство», а наши на тюрьмах — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Такой вариант представлялся мне настолько более точным, что я даже считал, что Эренбург просто-напросто оговорился: ведь буржуазная революция французов не только сохранила, но даже утвердила власть денег, и именно на деньгах написанные слова о равенстве и братстве гляделись откровенной издевкой над теми, кто таскал из огня каштаны для торжествующих буржуев. А наша, «пролетарская», революция свой пролетарский лозунг начертала не на деньгах. Деньги в молодой советской республике как раз потеряли свою власть (торжествовали закрытые распределители и лозунг «Пиво отпускается только членам профсоюза»). Зато тюрьмы…
Не может быть, чтобы Эренбург не понимал, что именно на тюрьмах победители-большевики написали: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Да, конечно же, он это понимал. В этом я убедился, прочитав (тогда же и там же, в «спецхране») короткий его рассказ «Любопытное происшествие».
На рассказ этот я наткнулся случайно. Хотя… Нет, все-таки не случайно. На этот эренбурговский рассказ меня навел не кто-нибудь, а сам Сталин.
Классический, как тогда говорилось, труд товарища Сталина «Об основах ленинизма», штудировать который вменялось в обязанность всему населению страны от академика до дворника, завершался критикой распространенной в партийной среде болезни «революционного сочинительства», «революционного планотворчества». И рассуждение вождя на эту тему включало в себя такой пассаж:
Один из русских писателей, Илья Эренбург, изобразил в рассказе «Ускомчел» (Усовершенствованный коммунистический человек) тип одержимого этой болезнью «большевика», который задался целью набросать схему идеально усовершенствованного человека и… «утоп» в этой «работе». В рассказе имеется большое преувеличение, но что он верно схватывает болезнь — это несомненно.
Прочитав это, я был приятно удивлен тем, что Сталин уже тогда («классический труд» был написан в 1924 году) читал и заметил Эренбурга. В моих глазах это говорило не столько в пользу Эренбурга, сколько в пользу Сталина, который, как оказалось, был человеком читающим, успевающим при всей своей занятости следить за новинками художественной литературы.
Говорили, правда, что этот классический сталинский труд то ли написал, то ли помогал Сталину писать Бухарин. В этом случае ссылка на Эренбурга была неудивительна: Бухарин был товарищем Эренбурга по гимназии и интерес его к писаниям однокашника был более понятен.
Как бы то ни было, тот факт, что сам Сталин в положительном смысле сослался на какой-то эренбурговский рассказ, для меня как для автора книги, которую я собирался писать, был большим козырем. И рассказ этот мне, конечно, необходимо было прочесть.
Отыскался он в маленькой книжечке Эренбурга «Неправдоподобные истории», вышедшей в Берлине в 1921 году. Было в ней всего-навсего семь сравнительно коротких рассказов. Отмеченный Сталиным «Ускомчел» стоял в сборнике последним, и он, по правде сказать, большого впечатления на меня не произвел. А предпоследним был вот этот самый — «Любопытное происшествие». С подзаголовком в скобочках: «Рассказ обывателя».
Любопытное происшествие (оно же — неправдоподобная история), ставшее сюжетом этого небольшого рассказа, случилось в провинциальном городе, названия которого автор нам не сообщает. Город, судя по описанию его быта и нравов, был захолустный, но не такой уж маленький — мимоходом автор упоминает, что губернский. А началось это любопытное происшествие с того, что в одночасье, «среди бела дня пропал председатель исполкома, товарищ Терехин, или еще „товарищ Валентин“, как называли его по старой памяти местные коммунисты, а иногда для форса и „сочи“, то есть — сочувствующие».
«Имя звучное, романтическое, — опять же мимоходом роняет по этому поводу автор, — но лишь для высоких политических сфер, ибо зовут на самом деле Терехина Иваном Ильичом».
Был этот Иван Ильич, сообщает нам далее автор, «человеком мечтательным, и не займись он еще в гимназические годы политикой, вышел бы из него уездный статистик, который посреди села, глядя на чушку и слюнтяя-мальчишку, стравливающего сучек, прозревает душу природы и, приехав домой, читает на сон страничку о пантеизме Спинозы и в своей кухарке Луше чует Дульцинею плюс Вечная Женственность Соловьева».
Но вышло так, что судьба Ивана Ильича сложилась иначе.
…В пятом классе прочел Терехин брошюрку «Пауки и мухи», возмутился нехорошим устроением мира и отважно решил все переделать заново. Сначала таскал «литературу», потом был произведен в пропагандисты и восьми рабочим с кирпичного завода «Глашки», прерывавшим его нудными вопросами: «Вот как насчет землицы?», читал об историческом материализме, особенно цитируя «Анти-Дюринга». Вскоре он попал в тюрьму и потом уж из семи лет до революции четыре с половиной года провел за решеткой. В тюрьмах он читал умные книжки, делал конспекты и до одурения спорил с меньшевиками, защищая «отрезки» против муниципализации.