Бывшее и несбывшееся
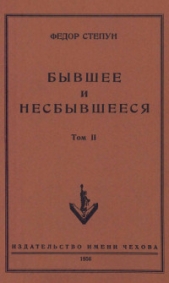
Бывшее и несбывшееся читать книгу онлайн
«Бывшее и несбывшееся» — мемуары выдающегося русского философа Федора Степуна, посвященные Серебряному Веку и трагедии 17-го года. По блистательности стиля и широте охвата их сравнивают с мемуарами Герцена и Ходасевича, а их философская глубина отвечает духу религиозного Ренессанса начала XX века и его продолжателям в эмиграции. Помимо собственно биографии Степуна читатель на страницах «Бывшего и несбывшегося» прикоснется к непередаваемо живому образу предреволюционного и революционного времени, к ключевым фигурам русского Ренессанса начала XX века, к военной действительности. Второй том полностью посвящен 17-му году: Степун был непосредственным участником тех событий. Артиллерийским прапорщиком он с фронта попадает в гущу тогдашней политики, становится начальником политуправления армии при Временном правительстве. Последние страницы мемуаров Степуна посвящены попыткам строить нормальную жизнь в новых советских условиях: театр в голодной Москве, сельскохозяйственная коммуна... Однако большевики изгонят Степуна из России. Степун предваряет свои мемуары следующими словами: «"Бывшее и несбывшееся" не только воспоминания, не только рассказ о бывшем, пережитом, но и раздумье о том, что «зачалось и быть могло, но стать не возмогло», раздумье о несбывшемся. Эта философская, в широком смысле слова даже научная сторона моей книги, представляется мне не менее важной, чем повествовательная. Я писал и как беллетрист, не чуждый лирического волнения, и как философ, как социолог и даже как политик, не замечая вполне естественных для меня переходов из одной области в другую. Близкий по своим философским взглядам славянофильски-Соловьевскому учению о положительном всеединстве, как о высшем предмете познания, я попытался подойти к нему в методе положительного всеединства всех методов познания. Врагами моей работы, с которыми я сознательно боролся, были: идеологическая узость, публицистическая заносчивость и эстетически-аморфное приблизительное писательство. [...] В противоположность туманно трепетным воспоминаниям, светлая память чтит и любит в прошлом не то, что в нем было и умерло, а лишь то бессмертное вечное, что не сбылось, не ожило: его завещание грядущим дням и поколениям. В противоположность воспоминаниям, память со временем не спорит; она не тоскует о его безвозвратно ушедшем счастье, так как она несет его непреходящую правду в себе. Воспоминания — это романтика, лирика. Память же, анамнезис Платона и вечная память панихиды, это, говоря философским языком, онтология, а религиозно-церковным — литургия».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Анатолий Васильевич Луначарский, рыжеватый, козлообразный мужчина в пенсне — смесь русского интеллигента с парижским bohemien, встретил меня не без напускного величия, но и не без прирожденной любезности.
Я, не таясь, рассказал ему, что призван на военную службу и что, ввиду ранения, буду назначен на какую–нибудь тыловую должность, что мне не по вкусу и не по силам. Стрелять меня в царской армии, с грехом пополам, выучили, но ведению батарейного журнала обучить не смогли. Практическая жизнь мне чужда, администратор я плохой и потому очень прошу устроить меня в Советском союзе на какую–нибудь более соответствующую моим дарованиям работу. Мне кажется, что на культурном фронте я смог бы принести Союзу гораздо больше пользы, чем на военном. Я был бы очень благодарен и счастлив, если бы меня назначили литературным руководителем того нового театра, о котором мы недавно беседовали с товарищем комиссаром.
К моему величайшему удивлению, Луначарский очень быстро согласился с моими доводами. Очень тактично, то есть без тени миросозерцательного допроса, побеседовав со мною на разные литературно–философские темы, он вызвал из соседней комнаты свою секретаршу и, привычно приняв не лишенную изящества позу власть имущего человека, бегло продиктовал письмо товарищу Троцкому, в котором просил военного комиссара предоставить тяжело раненого и потому не пригодного к фронтовой службе товарища Степуна в распоряжение Комиссариата народного просвещения для назначения его на соответствующую должность.
Подписав письмо, Луначарский сказал мне, чтобы я через неделю пришел за ответом. Просьба Луначарского была удовлетворена и я в мобилизационном порядке был назначен на должность идейного руководителя Государственного показательного театра.
Так часто мешавшие моей научной работе страсти — лошади и театр, спасли меня от службы в красной армии, в которой я был бы, безусловно, или убит, или расстрелян.
Покойному Луначарскому за его внимательное отношение ко мне приношу искреннюю благодарность.
Как только театр встал прочно на ноги, было приступлено к окончательному формированию труппы. Из известных на всю Россию артистических сил было приглашено всего только два человека: служившая в театре Корша, Мария Михайловна Блюменталь–Тамарина, лучшая после несравненной Садовской «комическая старуха», надежная, правдивая актриса с большим природным юмором, теплым сердцем и прекрасным русским говором и Илларион Николаевич Певцов, стяжавший себе громкую славу главным образом исполнением роли Павла I–го, в одноименной драме Мережковского. В сущности Певцов не был актером того типа и репертуара, который был нужен нашему героическому театру, но он был свободен, известен, а главное настолько талантлив и своеобразен, что не пригласить его было бы большой ошибкой.
Начиная новое дело, Ленин обязательно хотел испросить благословения глубоко чтимой им и протежировавшей ему Федотовой, которая была особо крепко спаяна с традицией Малого театра.
Попасть в дом к уже давно сошедшей со сцены больной старухе, которую и по дому возили в кресле, было трудно. Силы Федотовой уходили, боли мучили, и она мало кого принимала, хотя все еще горячо интересовалась всем, что касалось сцены, в особенности ее театра.
Нам посчастливилось. В назначенный для приема день Гликерия Николаевна чувствовала себя исключительно хорошо. Она по–старинному поцеловала в висок Ленина, благоговейно склонившегося над ее изуродованною болезнью рукою и ласково поздоровалась со мною. Ленин подробно рассказал ей о задуманном театре, подчеркнув, что он уходит из нынешнего Малого театра в целью возродить в своем новом театре славные традиции, хранительницей которых Москва считает прежде всего ее, Гликерию Николаевну Федотову.
Разговор сразу же перешел на доброе старое время. Федотова была еще совсем молоденькой, но уже с большим успехом сыгравшей несколько ролей актрисой, когда со словами: «молись и постись» Самарин вручил ей роль Катерины в «Грозе» Островского. Слова обожаемого артиста и режиссера она поняла и исполнила в точности. С благоговением и страхом Божиим работала над ролью. На первую репетицию шла в невероятном волнении. Играя, чувствовала, что всею душою входит в роль. Ждала похвалы. Но вот, по окончании репетиции, Самарин, все время сидевший в партере за суфлерской будкой уткнувшись в газету, подходит и говорит: «Мало молилась, плохо постилась, но не унывай, трудись дальше».
«Домой, — рассказывала Федотова, — я шла, как с похорон. Поститься было легко: с горя все равно кусок в горло не лез. Наплакавшись, опять принялась за роль. То читала про себя, то в голос и вот опять пришла на репетицию. Во время большого монолога с ключом, мельком взглянула на Самарина. Вижу, газета на коленях, очки в руках, а глазами весь ко мне тянется. Меня словно на крыльях подняло. Как кончила роль — не помню. После занавеса со слезами вошел ко мне в уборную, обнял, поцеловал, перекрестил: «Можешь, деточка, играть»…
Конечно, одно дело пост и молитва, другое — вино, но все же рассказ Федотовой, произведший на меня незабвенное впечатление, защищает ту же теорию сценического творчества, что и признание Певцова. Не оформляя постоянно теми или другими средствами своей души и даже своего тела (у Федотовой — пост, у Певцова — алкоголь), нельзя выработать из себя настоящего актера, ибо материал творчества для всякого искусства так же важен, как и его оформление. Актер же, в отличие от скульптора или живописца, творит свой образ не из внешнего материала, камня, глины, красок, а из себя самого, из своего одушевленного тела.
Приходя в театр, я поначалу каждый день заставал в нем кого–нибудь из вновь приглашенных актрис и актеров, в большинстве случаев совсем еще зеленую молодежь. Беспечная и горячая, полная веры в свои силы и надежды на будущее, она вносила в новое дело тот энтузиазм, без которого невозможен театр, и заставляла нас забывать о творящемся кругом ужасе. Впрочем, мы все были еще не стары. Мне было 34 года, Ленину 36 лет; Певцов, Массалитинова и Худолеев были немногим старше.
Еще до начала репетиций я начал свои лекции по философии и психологии театра, которые должны были спаять труппу и ввести молодежь в дух нашего «героического театра всенародной революции». Слушали по–разному: одни с большим интересом, другие — с упрямым протестом. Миша Ленин часто отсутствовал, занятый всевозможными техническими делами и хлопотами, но горячо поддерживал меня, рассматривая мой курс как оправдание своей главенствующей роли в труппе. Мятущаяся, бурлящая, вечно алчущая нового слова и высокого звука в искусстве, Массалитинова была всею душою за меня. Певцов восставал против всякого умствования. Проповедуя Божью искру, наитие минуты и, главное «нерв», он, не без злорадства намекал мне, что моими теориями интересуются, главным образом, бездарности, по недоразумению попавшие в труппу.
Начались репетиции «Меры за меру» Шекспира. Чем дальше они шли, тем все более изящно одетым и все менее бритым появлялся на них Худолеев. Все удобоносимые костюмы уходили понемногу в обмен на масло и крупу, а бриться было трудно из–за холода в квартире и из–за невозможности согреть воду. Вспоминая милого «Ваньку–Листократа» к концу сезона, я вижу перед собою одетого в шикарную визитку поверх рваного свитера человека в лаковых штиблетах под грязными бежевыми гетрами, покрасневшие глаза слезятся, посиневшие губы и заросшие рыжею щетиной щеки трясутся мелкой дрожью.
Несмотря на полную неустроенность своей холостяцкой жизни, на вечный голод и холод, Худолеев с восторгом работал над постановкою Шекспира. Я помогал ему, занимаясь с отдельными актерами. Мише Ленину очень не нравилось, что центральною фигурою пьесы я считал не наместника Анджелло, которого играл он, а короля–философа, но я примирил его с моим толкованием, сказав, что при его таланте он с легкостью превратит любую роль в главную.
Бороться с актерским самолюбием — невозможно: это стихия; но при некоторых дипломатических способностях им можно владеть.


























