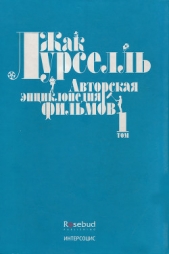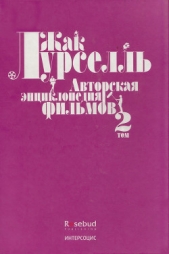Кино и все остальное
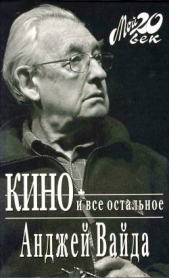
Кино и все остальное читать книгу онлайн
Фильмы и театральные постановки польского режиссера Анджея Вайды вошли в золотой фонд мировой культуры. «Канал», «Пепел и алмаз», «Всё на продажу» стали началом нового кинематографа Польши. Ф. М. Достоевский занимает особое место в его творчестве — на многих сценах мира, в том числе на сцене «Современника», он поставил «Бесов».
Фото на суперобложке Виктора Сенцова.
Издательство благодарит Кристину Захватович, Анджея Вайду и Ирину Рубанову, а также краковское издательство «Znak» и Московский театр «Современник» за предоставленные фотографии.
Перевод с польского И. Рубановой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Анджей мой!
Я тут придумал кое-какие вещи, которые выглядят довольно рискованными, но на самом деле содержат редкостные возможности:
1) Утвердить термин «МНОГОПЛАНОВАЯ» выставка. Установить срок ее проведения. Замысел совершенно оригинальный, включает показ как пластики, так и многообразия реальности… Следует создать коллектив МНОГОПЛАНОВЦЕВ (Вайда, Боровчик, Леница, Тарасин, Габа, Шапочников и я), а также созвать при Совете но культуре КОМИТЕТ МНОГОПЛАНОВЫХ ВЫСТАВОК. Общий термин: многопластика. Художник — многопластик. Его дети: многодети. Аббревиатура: МП: «Через многопластику к МАССАМ».
2) Первая из многих выставок должна иметь эпиграфом строчку из Арагона «Слышу вас, голоса убитых» и показать нашу ответственность за всех, кто погиб.
Это проект, который ни к чему не обязывает.
Вообще не будем особо огорчаться, потому что мир и так вполне омерзителен.
Анджей».
Власть побаивалась организованных групп молодых художников. У нее и так хватало забот с остальными деятелями искусств. Она ловко воспользовалась нашим недовольством учителями, чтобы расправиться с ними, а потом начала внедрять в краковскую Академию соцреализм. Остальное довершили партийные и чиновничьи указания.
Речь шла не только о согласии политических властей на нашу выставку. В большинстве своем мы, студенты, были страшно бедны и, конечно, не могли бы без соответствующих средств самостоятельно развернуть такого рода проекты. Нам не хватало денег даже на холсты и краски.
Тогда же Анджей Врублевский пробовал записаться в партию. Он был убежден, что обязан принимать активное участие в жизни не только как живописец, но и как общественный деятель. Согласно своим принципам он рисовал такие вещи, как «Вокзал на Западных землях», серию «Расстрелов» или шофера в устремленном к красному небу автобусе, которые никак не могли понравиться товарищам, поскольку не соответствовали эстетике соцреализма. Он бескомпромиссно и упорно искал собственный жизненный и художественный путь. И именно поэтому был обречен на одиночество.
Правда, его окружала группа друзей, принимавших его, несмотря на трудный характер и иронию, за которой скрывалась тайна его жизни и поведения. Он крайне неохотно говорил о своих трудностях, не любил откровенничать, все обращал в шутку. Как-то я спросил его: «Почему ты все фигуры убитых пишешь только синим цветом?» Он ответил: «У меня имеется большая туба синего, вот я и не экономлю ее».
Продолжать разговор не имело смысла: у него была большая упаковка берлинской лазури, и он не нуждался в моих советах, как ею воспользоваться. Я бы не обобщал, но мне кажется, что он относился к нам, как к людям, которые могут предложить ему не самые для него интересные решения. Его живописный мир уже сложился, и он не хотел начинать с нами обсуждать его. Просто он знал, как рисовать, и постепенно реализовывал свой план. Именно Анджей Врублевский за много лет до американцев сформулировал постулат о фотографическом реализме. Я поступил в Киношколу, где много занимаются фотографией, он же написал замечательные картины в фотографическом стиле. Это большая разница. И я о ней никогда не забывал.
«Дорогой Анджей,
прости, что не отдал тебе рукописи, когда ты у меня был, но я вспомнил об этом только после того, как ты ушел.
Свежие новости из Кракова:
1) Ожидается торжественный прием в партию жены проф. Р., поскольку сам он из-за непомерно выступающей челюсти испытывал бы серьезные затруднения при самокритике.
2) Краковские абстракционисты готовят выставку «Долой человека! Да здравствует социалистический реализм!»
3) Ожидаются новые воеводские награды: значок «самому бедному студенту АИИ» и памятная медаль «В девятую годовщину творческой самокритики» (для В.[рублевского]).
Что с моей выставкой?
Анджей».
Если бы Врублевский занимался своей живописью с убеждением, что его будут смотреть через десять — пятнадцать — двадцать лет, все было бы нормально. Но он хотел немедленного признания и отважно боролся за свое место здесь и сейчас. Он жаждал, чтобы его картины смотрели еще невысохшими, на выставках ли, но лучше на площади, и не только в Кракове. Могло ли это не раздражать? Поэтому, куда бы он ни обращался, всюду натыкался на недоброжелательность и, как следствие, на неуспех. Каждое дело он доводил до максимума противоречий. Вокруг него воздвигалась стена равнодушия и враждебности коллег, которые видели в нем человека, одержимого политическим успехом.
Тем временем в Польше праздновали победу эпигоны советского соцреализма. Им помогали в первую очередь их партийные и деловые связи. Концепция выставки «Молодежь в борьбе за мир» была для них платформой оголтелых формалистов. В награду Врублевский получил кирпичом по голове, брошенным неизвестными на темной краковской улице. По сравнению со своими коллегами соцреалистами из Варшавы, малевавшими холсты под «прогрессивными» названиями, каписты были куда более продвинуты в своей живописи…
Поступив сразу после войны в Академию, мы, во всех смыслах изголодавшиеся, чувствовали, что дорвались до возвышенного и прекрасного. Что бы ни говорили о наших профессорах-колористах, они открыли нам глаза на мир, своим искусством и личными позициями подключили к европейской традиции. Правда, в нашем обиходе единственным реальным воплощением этой традиции было богемное времяпрепровождение. Однако Анджей неизменно появлялся среди нас в сером костюме с галстуком и в шляпе вместо берета.
Это был не наш стиль.
Анджей Врублевский был одиночкой и в жизни, и в живописи. За десять лет до новой фигуративности он не стыдился писать человека. Человека в действии, человека что-то делающего. Он писал упорно и некрасиво. Сегодня, спустя многие годы, безобразное обрело силу и красоту обобщения. Он не боялся писать картины à thése [27] в цикле «Социальные неравенства», потому что, живя с открытыми глазами, знал, что есть бедные и есть богатые.
Он прожил только тридцать лет. Сознательно работал девять. Столько ему потребовалось, чтобы стать, может быть, самым оригинальным и самым самостоятельным живописцем в послевоенной Польше. Сознание своих задач и своего пути он выработал уже в самом начале, а потом просто не терял времени даром.
Я думаю, что пора нашей Академии создать свой музей, хотя бы для того, чтобы поставить там стул Анджея Врублевского, обычный деревянный стул с полотняной спинкой. С правой стороны к нему прибит ящик для бумаг и ухватик для стакана с водой, с левой — подставка для коробки с акварелью. На этом стуле он просидел много часов. За это время создал 1437 рисунков и акварелей. Это было возможно потому, что он очень рано уяснил себе, что и кого ненавидит, кого любит, от чьего имени хочет говорить.
Когда я возвращаюсь воспоминаниями к впечатлениям тех лет, я спрашиваю себя: что поразило нас сильнее всего в сценах расстрелов, прогулок обрученных, в шоферах, едущих в никуда, Анджея? Сегодня я убежден, что поражала безличность людей и их одежд. Мы тогда не имели понятия, что возможна такая степень унификации человека. Каждый из нас был для другого кем-то, каждый стремился выстроить собственную жизнь, проложить свою дорогу. Между тем человек на картинах Врублевского — это современный киборг. Создание кинотелекомпьютерного мозга. На это страшно было смотреть. Причина общего неприятия его живописи коренилась в том, что Врублевский писал какую-то чужую форму будущего, а не, как нам хотелось, хорошо известное военное прошлое.
Я часто думаю об основоположнике краковской Академии. Яна Матейко отличала великая сила духа, неудивительно, что именно он воплотил национальную потребность в величии. В бедном, маленьком городе, каким был Краков, он вызвал к жизни прошлое, заставил бедняков грезить о королях, о присяге пруссаков и о победе под Грюнвальдом. Это благодаря ему Вавель превратился в обитель духа Словацкого, последнее упокоение Пилсудского и стал символом неистребимости нашего народа. Разве этого мало? Нет, это очень много, но задача искусства этим не исчерпывается.