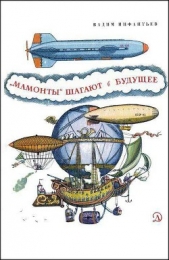Мамонты
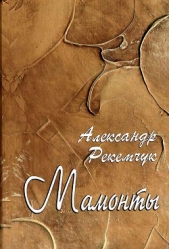
Мамонты читать книгу онлайн
Это — новая книга писателя Александра Рекемчука, чьи произведения известны нескольким поколениям читателей в России и за рубежом (повести «Время летних отпусков», «Молодо-зелено», «Мальчики», романы «Скудный материк», «Нежный возраст», «Тридцать шесть и шесть»).
«Мамонты» — главная книга писателя, уникальное эпическое произведение, изображающее судьбы людей одного семейного рода, попавших в трагический круговорот событий XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нужно было лишь почаще заводить его ключиком, взводя пружину до отказа, но я уже и сам научился это делать.
В выходной день он собрался на прогулку.
Снял с рогатой вешалки свою серую шляпу со щегольски примятой тульей, снял с крюка шишковатую трость с изогнутой, как бараний рог, рукоятью, потянулся к дверной цепочке.
— Далеко ли? — спросила мама.
— Пройдусь до Владимирской горки. Давно не был в Киеве, соскучился по любимым местам, — объяснил отец.
— Вот и хорошо, — обрадовалась она. — На Владимирскую горку? Тюрик пойдет гулять вместе с тобою. Сегодня такая чудесная погода — уже совсем весна… Сейчас я мигом соберу его.
Мы прошагали Крещатик, вошли в парк.
Я тоже любил это место.
Внизу, под крутизной, степенно катился Днепр. В эту пору он был таким полноводным, что не только захлестывал набережные, но и затопил все видимые земные пространства вплоть до горизонта — они напоминали о себе лишь островами, плавающими в речной воде, как листья кувшинок.
И берег, и острова были затянуты нежнозеленой дымкой, лишь предрекающей, какие дубравы, какие ивовые завеси, какие пущи, какие дебри заполнят тут вскоре всё вокруг и оттеснят воду в отведенные ей пределы.
Надо мною, на постаменте, стоял князь Владимир, прислонив к себе крест, который был выше его головы.
Он, князь Владимир, тоже смотрел в заднепровские дали, на острова, на материки, омытые половодьем, будто бы лишь сейчас принимающие крещенье во вселенской святой воде.
Я обежал постамент и вновь возвратился к отцу, который здесь был для меня — это понятно, — не менее важной фигурой окружающего мира, чем Креститель.
Отец, по обыкновению, сидел на рукояти своей трости, косо воткнутой в грунт.
Это было частью его натуры, его личности: вот так он умел обращаться с предметами, привычными его рукам. Вот так, в бесподобной шляхетской стойке, он орудовал рапирой. Вот так подходил с кистью к мольберту — я еще расскажу об этом.
Вот так он садился на рукоять своей шишковатой трости, будто бы даже удивляясь тому, что некоторые люди предпочитают стулья о четырех ногах.
Да, он очень давно не был дома и наверняка соскучился по Днепру, по этим далям.
И, вероятно, сейчас он размышлял о том, что же происходило здесь, покуда он скитался по дальним странам. Что было в Киеве, что было вообще в этой богоспасаемой стране. Что было, конкретно, в его доме, в его семье — за столь долгое его отсутствие.
Но, может быть, и вовсе наоборот.
Возможно, сейчас, глядя на Днепр, он думал как раз о тех краях, откуда только что приехал. И вспоминал с тоскою о том, какая беззаботная и благостная там жизнь, в отличие от здешних дикостей, какие обходительные там люди, какие ослепительные женщины…
Вороша бумаги в серо-зеленой архивной папке с грифом «Совершенно секретно», я несколько раз натыкался на имя Ирэны Дарлич, актрисы варшавской оперетты, снимавшейся также в кино. Ее имя стояло недвусмысленно рядом с именем моего отца… Но я никак не исключаю того, что это было связано с делами его службы.
Или же к этому времени он был уже привязан сердцем к другой женщине, киевлянке, которую тоже, как и мою маму, звали Лидией?
И я допускаю, что именно в этот выходной день он намеревался встретиться с нею после долгой разлуки, а тут, как на грех — будто бы разгадав его намерения, — мама навязала ему попутчиком в этой прогулке рыжеволосого сына Тюрика…
А я всё ждал, что он заговорит со мною, как бывало.
Что он опять — как в прошлые наши прогулки над Днепром, — расскажет мне о том, как толпы растерянных и смущенных собственной наготою людей шли сюда принимать крещение; как стояли они в речной воде, держа на руках, окуная в купель своих младенцев; и как плыли по волнам языческие свергнутые идолы; и как самого главного из этих идолов, Перуна, привязали к лошадиному хвосту, столкнули в Днепр, и стража провожала берегом путь Перуна до самых Порогов, чтобы никто не вздумал вытащить его из реки…
Однако сегодня он мне ничего не рассказывал.
И даже не смотрел на меня. Будто я ему не родной.
Почему он не захотел искать меня в китайской вазе с павлинами? Почему сам не позвал с собою на Владимирскую горку? Почему он так изменился, вернувшись на сей раз из-за границы?
Что я ему сделал?
Но вскоре он уже сам позвал нас с мамой сопровождать его в интересной поездке.
Мы отправились в Киево-Печерскую лавру, и не на чем-нибудь, а на «Линкольне» цвета кофе с молоком, с борзой собакой на капоте, скачущей на шаг впереди автомобиля, — на таком же точно, как мой игрушечный «Линкольн», который отец привез мне в подарок из-за бугра, — но этот был настоящий.
Мы ехали к лавре даже не в одном, а в двух «Линкольнах».
В другом были какие-то важные гости, старик с золотыми зубами и старуха с золотыми серьгами, сразу видно, что очень богатые, разговаривали не по-русски.
В лавре нас тоже встречал старик, седобородый и седовласый, но не священник, а директор музея, фамилия которого осталась в моей памяти — Депарма.
Когда-то была и фотография, где все мы были сняты на фоне церковных стен, на фоне золотых куполов — иностранные гости, бородатый Депарма, отец, мама и я.
Эта фотография долгие годы хранилась в мамином бюваре, и я часто разглядывал ее. Но потом она исчезла вместе со всеми другими снимками, на которых был изображен мой отец.
А тогда, в лавре, сфотографировавшись на память, мы углубились в Пещеры.
После яркого солнца снаружи, сумрак этих пещер был так плотен, что мы не видели ни зги — сплошная тьма, — и всем раздали восковые свечи, которые зажигались поочередно, одна от другой.
Свет от этих пламешек, колеблемых сквозным ветром, метался пятнами по сводам, выхватывая из тьмы то серые мазки давней побелки, то трещиноватый узор глины, то округлые лбы камня.
В моей руке тоже была свеча, и я ощущал себя причастным к таинству.
Во глубине пещеры, вдоль сводчатой стены, впритык к ней, стояли деревянные ящики, покрытые стеклом, а под стеклом были ветхие от времени холстины, из-под которых торчали иссохшие темнокоричневые длани с крючковатыми пальцами, а там, где голова, кустились, будто пакля, клоки взъерошенных волос, то ли усы, то ли бороды, то ли поросль поверх черепов, а внизу опять торчали из-под холстины иссохшие до самых костей конечности с узкими ступнями, гребешками пальцев…
Меня охватил страх, какого я не испытывал никогда раньше, даже тогда, когда, по приезде в Киев, увидел на Крещатике, у Пассажа, груды лохмотьев, а это лежали на тротуаре умершие от голода люди… Но лишь сейчас, а не тогда, я воочию увидел смерть.
— Это что? Это — кто? — спросил я отца боязливым шепотом.
Он ответил:
— Святые мощи.
А седовласый Депарма, склонясь ко мне, объяснил:
— Это — Илья Муромец. Ты слыхал про Илью Муромца?
— Да, — кивнул я.
Я знал сказку про Илью Муромца. Видел картинку, где он на коне, вместе с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем.
Но там, на картинке, все они были молодцами, могучими богатырями, с плечами в сажень, с румянцем во всю щеку, в кольчугах и доспехах.
А здесь, под стеклом, под истлевшей холстиной, лежали столь жалкие останки былой их мощи, что я даже не поверил, что огромный человечище, былинный богатырь, может иссохнуть, лежа в ящике, до такой вот кочерыжки…
Между тем, богатые иностранцы с золотыми зубами и серьгами, дивясь тому, что им здесь показывают, шаг за шагом продвигались в глубь пещеры, рассматривая другие ящики, другие останки, другие мощи.
Депарма объяснял им, кто да что, а отец переводил эти объяснения на ихний язык.
И тут моя мама, заметив, наверное, мое потрясение, шепнула мне на ухо, так, чтобы никто, кроме меня, не услышал:
— Я думаю, что все эти мощи — подделка…
Замечу, что она, еще девочкой певшая в церковном хоре, сделалась к этой поре заядлой атеисткой, какими были тогда все или почти все, не исключая меня. Мы были упорны и заносчивы в своем безбожии.