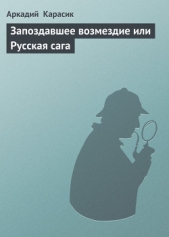Воздыхание окованных. Русская сага

Воздыхание окованных. Русская сага читать книгу онлайн
Окованными можно назвать вообще всех людей, все человечество: и давно ушедших из этого мира, и нас, еще томящихся здесь под гнетом нашей греховной наследственности, переданной нам от падших и изгнанных из «Рая сладости» прародителей Адама и Евы, от всей череды последовавших за ними поколений, наследственности нами самими, увы, преумноженной. Отсюда и воздыхания, — слово, в устах святого апостола Павла являющееся синонимом молитвы: «О чесом бо помолимся, якоже подобает, не вемы, но Сам Дух ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными».
Воздыхания окованных — это и молитва замещения: поминовение не только имен усопших, но и молитва от имени тех, кто давно уже не может сам за себя помолиться, с упованием на помощь препоручивших это нам, еще живущим здесь.
Однако чтобы из глубин сердца молиться о ком-то, в том числе и о дальних, и тем более от лица живших задолго до тебя, нужно хранить хотя бы крупицы живой памяти о них, какое-то подлинное тепло, живое чувство, осязание тех людей, научиться знать их духовно, сочувствуя чаяниям и скорбям давно отшедшей жизни, насколько это вообще возможно для человека — постигать тайну личности и дух жизни другого. А главное — научиться сострадать грешнику, такому же грешнику, как и мы сами, поскольку это сострадание — есть одно из главных критериев подлинного христианства.
Но «невозможное человекам возможно Богу»: всякий человек оставляет какой-то свой след в жизни, и Милосердный Господь, даруя некоторым потомкам особенно острую сердечную проницательность, способность духовно погружаться в стихию былого, сближаться с прошлым и созерцать в духе сокровенное других сердец, заботится о том, чтобы эта живая нить памяти не исчезала бесследно. Вот почему хранение памяти — не самоцель, но прежде всего средство единение поколений в любви, сострадании и взаимопомощи, благодаря чему могут — и должны! — преодолеваться и «река времен», уносящая «все дела людей», и даже преграды смерти, подготавливая наши души к инобытию в Блаженной Вечности вместе с теми, кто был до нас и кто соберется во время оно в Церкви Торжествующей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что касается Евангельского слова «и пошел» — оно не означало еще моего полного исцеления или исправления, но оно свидетельствовало для меня о том, что человек, лежавший 38 лет (мне было меньше) «встал» и «пошел» навстречу Спасающему и Исцеляющему нас Господу. Это означало, что надлежало встать и идти навстречу Господу и мне…
* * *
Училась я в школе тогда очень хорошо — кроме пятёрок — других оценок никогда не видела, хотя школа была очень строгая, а одноклассницы на редкость хорошо подготовленными и способными девочками. Не помню, была ли я первой отличницей, или только второй — вслед за Валей Курбатовой, на которую я смотрела всегда снизу вверх, почему-то считая ее по-настоящему серьезным человеком и настоящей отличницей, а себя — кем-то не тем, за кого себя выдаю, каким-то суррогатом (о чем, конечно, никому не говорила, да и сказать не умела). Свидетельствую о том с ответственностью: это самоощущение собственной неподлинности присутствовало во мне с очень раннего возраста. Нечто вроде самочувствия классического русского «маленького человека»… Странно, но это правда.
Тем не менее, почему-то именно меня, а не Валю наградили билетом на первую в истории Кремлевскую ёлку в Большом Кремлевском дворце. Возможно потому, что я очень много болела в первом классе, но училась все равно хорошо: мама моя была очень строга, и если я делала на странице в тетради хоть одну помарку (да хоть на десятой странице), я тут же должна была переписать абсолютно все без помарок, — вырывать страницы категорически не полагалось. К тому же часто переписывания осуществлялись лежа из-за болезни. Не потому ли с детства и на всю жизнь у меня образовалась мозоль от ручки на третьем пальце правой руки? А еще и полное спокойствие, когда что-то приходится сто раз переделывать. Мамина закалка. Спасибо родимой за это воспитание. Хотя я не совсем уверена, что с каким-то другим характером ребенка был бы точно такой же эффект.
…Не без трепета и страха я шествовала в Кремль за руку с мамой. Красота дворца меня ошеломила, хотя я была не совсем уж неискушенной в этом отношении девочкой: уже несколько лет мы с мамой ходили на концерты в Большой зал Консерватории, доставались мне билеты и на ёлки в ЦДРИ — в Центральном Доме работников искусств (очень уютно-домашних — я их больше всего любила), куда попадала благодаря тому, что мама была членом Союза художников.
Кажется, к тому времени, бабушка уже водила меня и в Оружейную палату Кремля, ездили мы с мамой и в Кусково, и в юсуповское Архангельское, красота которого и вся его дивная аура XVIII века меня особенно услаждала. Но грандиозный и прекрасный Георгиевский зал и несметное множество детей разных возрастов, — а мне казалось, что все старше и больше меня, — ослепительные огни и великолепная ёлка до расписного потолка, меня, вероятно, настолько подавили своим великолепием, сиянием золота, высотой, пространствами и глубинами, что я потом, потрясенная, начисто забыла все то, что происходило на самой ёлке. Вообще-то я была бестолковой в житейском смысле девочкой и мне всегда было трудно ориентироваться — куда надо бежать, с кем и что танцевать, что скандировать в ответ на возгласы чудесного Деда Мороза, я путалась, мне было стыдно и я потихоньку начала ретироваться на задний план, а потом возникла спасительно-малодушная мысль: пусть ёлка еще в самом разгаре, пусть еще будет представление, а потом раздача подарков, но мама-то моя в раздевалке, и я прекрасно помню дорогу, по которой нас сюда вели. И я вышмыгнула из шумнодействующих рядов детей и побежала к лестнице…
* * *
А дальше все происходило как во сне. Я сразу очутилась в свободном пространстве бесконечных кремлевских переходов, тихих сияний люстр, бронзы, золота, множества зеркальных отражений, восхитительных узоров паркетов, — и ни один человек почему то не встретился мне на пути, словно я в один миг выпала из времени и осталась один на один с тем, что времени не принадлежит и никогда не принадлежало. Это было как и в Орехове: я несомненно очутилась в гостях у подлинных хозяев дворца и если все-таки во времени, то несомненно в таком, которое обычным измерениям не поддается…
А я все шла и шла, сто, двести, пятьсот метров и больше (это я сейчас уже прикидываю свой маршрут по дворцовым схемам), казалось бы, узнавая свой недавний путь к выходу их дворца. Но на самом деле я двигалась совсем в другую сторону: где-то на переходах я ошиблась, и не там свернула, и вот теперь со мной происходило нечто чудесное: из велеречия Николаевско-Тоновской России, из царственного декора еще недалекого XIX века я вдруг очутилась… в сказочных глубинах древней русской жизни.
…Предо мной открылось все совсем другое: удивительной красоты расписные покои с низкими сводами, с темным деревом мощных резных кресел и лавок с лапами зверей вместо ножек, с красными коврами и узорчатыми решетками цветных окошек. И я тут позабыла все — и кто я, и где я, и почему иду, и куда иду по этим палатам, и только не могла отвести глаз от расписных стен, от сказочной красоты этой сказки о Царе Салтане или о Золотом петушке, от воплотившейся в един миг в реальность былинной моей любви к Руси, уже тогда переполнявшей мое детское сердце видЕниями и присутствиями на ковыльных «русських» полях, в дремучих еловых лесах, где таились богатырские сторОжи, в деревнях, которые виделись мне только в сиянии чистоты — ключевой воды, шелковых мурав, русской милой льняной одежды, тихой поступи русских мягких, смиренных лаптей, плести которые учил меня еще недавно — тридцать лет назад старичок-мастер под Зарайском.
Как я любила читать и перечитывать в детстве Русский богатырский былинный эпос, в хорошем, близком к пониманию ребенка изложении, кажется, писательницы Карнауховой, и сохранявшем при том подлинность русского пОступа. Эти былины мне тоже, как почти и все остальное, подарила бабушка. И много лет спустя, я очень сокрушалась, что русские дети не знают и не любят родимый наш русский эпос и все их последующие знания, приобретаемые в жизни, их привязанности и любови ложатся на безобразно пустое место, где бы дОлжно было бы храниться в золотом ларце сокровищу живой памяти о началах нашей Руси.
Именно в те сказочные, былинные времена детства (в том смысле былинные, что я не читала, а пребывала в былинной стихии — я там просто день за днем жила) и обреталась, наверное, способность погружаться в мир слова, мерянный не страницами, не строками, а словами и даже буквами, — настолько могучим было магнетическое притяжение текста, и я входила в него, в глубь слов, и еще вглубь, как входят в глубокие воды великой реки, и погружалась в них до того, пока остро и предметно не видела, что — вот оно! — все передо мной живое: и морда Соловья-Разбойника, и любимый мною Добрыня Никитич, и не очень любимый, какой-то сомнительный Алеша Попович, и Микула Селянинович, и, наконец, драгоценный, царственный, несравнимый ни с кем, выше всех стоящий в моем детском воображении, самый трагический и самый мощный и самый одинокий мученик-неудачник, страдалец своей непомерной неземной силы — Святогор-БогатырЬ, который только по горам, да по горам Араратским, на своем могучем коне ездил, который побратался с Ильей Муромцем, да золотым крестом с ним обменялся, который сумочку-то Микулы Селяниновича, русского пахаря, поднять так и не смог, потому что там сама тяга земная была схоронена, и который, в конце концов, смиренно лег на высоченных, недоступных и мрачноватых тех горах Араратских, Кавказских в уготованный ему дубовый гроб:
На тых горах высокиих,
На той на Святой Горы,
Был богатырь чудный,
Что ль во весь же мир он дивный,
Во весь же мир был дивный.
Не ездил он на святую Русь,
Не носила его да мать сыра земля…