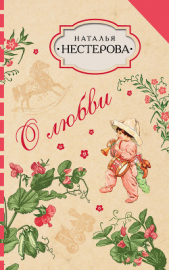О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания
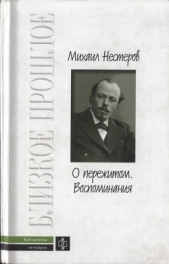
О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания читать книгу онлайн
Мемуары одного из крупнейших русских живописцев конца XIX — первой половины XX века М. В. Нестерова живо и остро повествуют о событиях художественной, культурной и общественно-политической жизни России на переломе веков, рассказывают о предках и родственниках художника. В книгу впервые включены воспоминания о росписи и освящении Владимирского собора в Киеве и храма Покрова Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Исторически интересны впечатления автора от встреч с императором Николаем Александровичем и его окружением, от общения с великой княгиней Елизаветой Федоровной в период создания ею обители. В книге помещены ранее не публиковавшиеся материалы и иллюстрации из семейных архивов Н. М. Нестеровой — дочери художника и М. И. и Т. И. Титовых — его внучек.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Такой не раз хотелось мне написать ее и казалось, что она не откажет мне попозировать. Таким тихим вечером на лавочке, среди цветов, в ее сером обительском одеянии, в серой монашеской скуфье, прекрасная, стройная, как средневековая готическая скульптура в каком-нибудь старом, старом соборе ее прежней родины… И мне чудилось, что такой портрет мог бы удасться, хотя я знал, что угодить В<еликой> Кн<яги>не было легко.
Ни одним из написанных с нее портретов не была она довольна. Большой Каульбаховский был слишком официален, тот, что написал с нее когда-то гремевший в Европе Каролюс-Дюран [420] — нарядный, в меховой ротонде, с бриллиантовой диадемой на голове, с жемчугами на шее, — был особенно неприятен В<еликой> Кн<яги>не. И, говоря о нем, она с горечью сказала: «Может быть, я была очень дурная и грешная, но такой, как написал меня Каролюс-Дюран, я никогда не была».
Понимание искусства у Великой Княгини было широкое. Она внимательно всматривалась в новые течения. Видела она многое, знала музеи Европы, любила старых мастеров, из современных — Берн-Джонса. Много читала, знала нашу и западную литературу, в последние же годы читала исключительно богословские книги — Святоотеческие предания, Жития святых. Многие места из Библии и Евангелия знала на память. К моему художеству она относилась с давних пор с симпатией, и так было до конца.
В первое же лето по освящении Церкви был такой случай: ходили слухи, что среди лиц, приближенных к В<еликой> Кн<ягине>, есть группа недовольных, что к росписи церкви был приглашен я, а не Васнецов. Это были давние друзья и почитатели Виктора Михайловича, для которых все, что не Васнецов, будь то Нестеров или Врубель, — цена одна. Вел<икая> Княгиня об этом знала, огорчалась. Знал и я и ждал во что все это выльется.
Мои хулители особенно подчеркивали то, что я обошел некоторые «непреложные» правила Православной иконографии. И они собирались поднять на меня «самого» Федора Дмитриевича Самарина [421] — великого знатока всяких канонов. Он-то и должен был решить мою участь: слово его было свято, суд нелицеприятен. Этого боялась Вел<икая> Кн<ягиня>, ожидал и я не без некоторого беспокойства.
Фед<ор> Дм<итриевич> в то время уже болел, не выезжал из дома. И все же удалось выбрать день, когда ему было получше. За ним заехала одна из высокопоставленных дам, забрала его в свою карету и привезла на Б<ольшую> Ордынку, в новую Церковь.
Конец я передам со слов Вел<икой> Кн<ягини>, которую я случайно встретил через каких-нибудь полчаса после произнесения Самариным приговора моему художеству.
В тот день я собирался ехать в деревню к семье. Нагруженный покупками, как некий «дачный муж», я зашел попрощаться к о<тцу> Митрофану. Для близости шел садом, как неожиданно увидел в нескольких шагах от себя идущую на меня Вел<икую> Княгиню. Она тоже заметила меня. Я наскоро поставил на дорожке свои покупки, подошел поздороваться с Вел<икой> Княгиней. Она, сияющая, моложавая и счастливая, с первого слова спешила поделиться со мной новостью.
Только что был в Церкви и уехал Ф. Д. Самарин. Долго оставался, подробно осмотрел храм и его роспись… и… всем остался очень доволен. Больше всего понравилось ему «Благовещение» на пилонах, на которое так рассчитывали мои великосветские хулители. Самарин нашел, что такой Храм следует беречь, что он не видит ни в чем противоречия против уставов и иконописных канонов. Словом, «враги» были посрамлены, а дама, что привезла больного, была сконфужена и поспешила поскорее увезти строгого судью домой.
Уезжая, Самарин поздравил и поблагодарил В<еликую> К<нягиню>, и она, счастливая, довольная, спешила разделить свою радость со мной. Она, как будто, сама выдержала трудный экзамен. Не нужно говорить, как я был рад. Теперь я мог быть спокоен, что нападки на меня кончатся. Так оно и было…
Я упомянул, как сильно и настойчиво противодействовал утверждению Устава о диакониссах в Синоде Распутин, явно и открыто ненавидевший Великую Княгиню Елизавету Федоровну — Настоятельницу Марфо-Мариинской Обители Милосердия. Великая Княгиня была открытым, деятельным его врагом. Все, что можно было сделать, чтобы удалить его или ослабить его влияние в Царской семье, делалось непрестанно. Она не задумывалась ни перед чем, чтобы достойно осветить эту темную личность. Поездки в Царское Село с этой целью были для Вел<икой> Кн<ягини> и болезненны и бесплодны. Последняя из них незадолго до убийства Григория была особенно тяжела по своим последствиям, и В<еликая> К<нягиня> вернулась из Петербурга в подавленном состоянии. Больная психически Императрица не только не пожелала выслушать свою старшую и когда-то любимую сестру, она потребовала, чтобы В<еликая> Кн<ягиня> больше не приезжала, так как она видеть ее «не желает»…
Вел<икую> Княгиню — одну из самых прекрасных женщин — не щадила и клевета. О ней, как и о всех Высочайших, было принято распускать были и небылицы. Такие приемы не были почтенны, но они достигали своей цели. Сами же оклеветанные были в таких случаях совершенно беспомощны.
Приведу лишь один случай, невероятно наивный, но умело пущенный в годы войны. Пользуясь тем, что Вел<икая> Кня<гиня> была по рождению немка, тысячеустная молва разнесла, что на Ордынке бывает с какими-то целями ее брат — Великий Герцог Гессенский. Видеться со своей сестрой Герцог приходил по потаенному подземному ходу, проведенному от места его жительства — в Нескучном. Как это ни было безумно нелепо, многие все же этому верили.
Обо всех таких случаях Вел<икая> Кн<ягиня> знала. Нечего говорить, как было ей больно, но она знала и то, что такова «завидная» доля людей с ее положением. Крест свой она пронесла терпеливо, с великим смирением через всю свою жизнь.
О себе Вел<икая> Кня<гиня> была самого скромного мнения. Она говорила, что роль свою в жизни, свои силы знает, их не преувеличивает, на крупное не претендует. Говорила, что «ум ее не создан для больших дел, но у нее есть сердце, и его она может и хочет отдать людям и отдать без остатка»… И действительно, имея большое, умное сердце, она была в жизни больше Марией, чем Марфой.
Лишь однажды мне пришлось видеть Вел<икую> Княгиню взволнованной, гневной. Наступали так называемые Овручские торжества. В присутствии Государя предстояло освящение древнего храма, реставрированного Щусевым [422]. На торжество должна была поехать и Вел<икая> Княгиня. Как-то она была в церкви, о чем-то говорила со мной, как явился прямо из Овруча Щусев. Стали говорить о предстоящих торжествах. Щусев осведомился, предполагает ли В<еликая> Княгиня быть на них. Она отвечала, что еще не решила. Она слышала, что наплыв паломников будет так велик, что не хватит для всех помещения. — «Ну, Ваше Высочество, Вы только скажите, — мы выгоним монахов из их келий и устроим Вас шикарно». Сказано это было с бесподобной хвастливой наивностью человека власть имущего…
Но не успел наш Алексей Викторович и окончить своих слов, как щеки Великой Княгини стали алыми, глаза сверкнули. Она, постоянно сдержанная, ласковая, резко сказала, что если еще и колебалась, ехать или не ехать, то сейчас колебаний нет. В Овруче она не будет. Она не хочет, чтобы ради нее выгоняли кого-либо из келий, что комфорт она знает с детства, жизнь во дворцах знает… Говорила Вел<икая> Княгиня быстро, горячо, не переводя дух. — Она не смогла скрыть своего возмущения.
Щусев плохо понимал, почему Вел<икая> Кн<ягиня> так волнуется. Он что-то бормотал, он хотел только… Но гнев уже прошел. Разговор был кончен в обычных мягких тонах. В Овруч Великая Княгиня тогда не поехала…