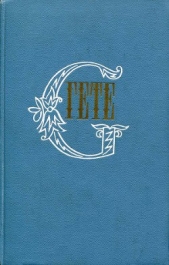Разговоры с Гете в последние годы его жизни
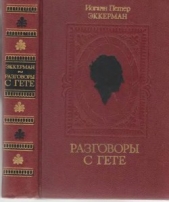
Разговоры с Гете в последние годы его жизни читать книгу онлайн
Многолетний секретарь Иоганна Вольганга Гёте Иоганн Петер Эккерман (1792–1854) долгие годы вёл подробнейшую запись своих бесед с великим немецким поэтом и мыслителем. Они стали ценнейшим источником для изучения личности Гёте и его взглядов на жизнь и литературу, историю и политику, философию и искусство. Книга Иоганна Эккермана позволяет нам увидеть Гёте вблизи, послушать его, как если бы мы сидели рядом с ним. В тоже время, Эккерман не попадает в ловушку лести и угодничества. Его работа отмечена желанием быть как можно более объективным к великому современнику и в тоже самое время глубокой теплотой искренней любви к нему…
Широкий охват тем, интересовавших Гёте, добросовестность и тщательность Эккермана помноженные на его редкостное литературное мастерство, сделали эту книгу настоящим памятником мировой культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но когда «Годы странствий» вышли в свет, никто толком не знал, как отнестись к этому роману. Действие его то и дело прерывалось загадочными изречениями, смысл коих был понятен только специалистам, то есть художникам, естествоиспытателям и литераторам, остальные читатели, и прежде всего читательницы, пребывали в растерянности. Оба стихотворения тоже, можно сказать, остались непонятыми, никто не мог взять в толк, как они сюда попали.
Гёте смеялся.
— Теперь уж ничего не поделаешь, — сказал он тогда, — придется нам при подготовке к изданию моего литературного наследства разместить все как надлежит, дабы «Годы странствий» без вставок и без этих двух стихотворений уместились в двух томах, как оно и было задумано поначалу.
Мы договорились, что все афоризмы об искусстве будут со временем объединены в томе, посвященном искусству, все афоризмы о природе — в томе статей и заметок о естествознании, те же, что относятся к вопросам этики и литературы, составят отдельный том.
Говорили о «Лагере Валленштейна». Мне не раз доводилось слышать, что Гёте принимал участие в создании этой драмы и что проповедь капуцина подсказана им. Сегодня за столом я спросил его об этом, и он ответил мне следующее:
— По существу — все сделано Шиллером. Но так как мы жили в тесном общении и Шиллер не только посвятил меня в свой замысел и обсудил его со мною, но по мере продвижения работы читал мне ее, выслушивал мои замечания и использовал их, то, возможно, есть там и что-то мое. Для проповеди капуцина я послал ему «Речи Абрагама а Санкта-Клара», из них он умело и остроумно составил эту проповедь.
Не могу уже припомнить, чтобы отдельные места были сделаны мною, помню только два стиха:
(Перевод О. Румера)
Я считал необходимым пояснить, каким образом у крестьянина очутились поддельные кости, и собственноручно вписал эти две строки в рукопись. Шиллер об этом не подумал и, как всегда, смело дал кости в руки крестьянину, нимало не заботясь о том, как они к нему попали. Продуманные мотивировки, как я уже сказал, не были его сильной стороной, наверно, потому его пьесы в сценическом воплощении так сильно и волнуют зрителя.
Гёте рассказывал мне о мальчике, который никак не мог успокоиться после совершенного им небольшого проступка.
— Мне не понравилось, — сказал Гёте, — это свидетельство не в меру чуткой совести, ведь это значит, что он столь высоко оценивает свое нравственное «я», что уже ничего ему не прощает. Такая совесть делает людей ипохондриками, если, конечно, ее не уравновешивает энергичная деятельность.
На днях мне подарили гнездо с птенцами славки, а также и мать, пойманную на обмазанный клеем прутик. Я с удивлением наблюдал, что птица продолжала приносить пищу своим птенцам в комнату и, выпущенная из окна, всякий раз возвращалась к ним. Эта материнская любовь, превозмогшая опасность и тяготы плена, растрогала меня до глубины души, и сегодня я поведал Гёте о своем удивлении.
— Чудак человек! — многозначительно усмехнувшись, сказал он, — верили бы вы в бога, и вам не пришлось бы удивляться.
(Перевод Б. Пастернака.)
Если бы бог не даровал птице всемогущего материнского инстинкта, если бы этот инстинкт не был присущ всему живому, мир не мог бы существовать! Но божественная сила разлита повсюду, и повсюду властвует вечная любовь.
Сходную мысль Гёте высказал на днях, когда некий молодой скульптор прислал ему копию Мироновой коровы с сосущим ее теленком.
— Вот, собственно, наивысший символ, — сказал Гёте, — прекрасное воплощение начала, на котором зиждется мир, — принципа питания, насквозь проникающего природу. Такие произведения искусства я считаю истинным символом вездесущности бога.
Сегодня Гёте показал мне отсутствовавшее доныне начало пятого акта «Фауста». Я дочитал до места, когда сгорает хижина Филимона и Бавкиды, а Фауст, стоя ночью на балконе своего дворца, чует запах дыма в обвевающем его ветерке.
— Имена Филимона и Бавкиды, — сказал я, — переносят меня на Фригийский берег, и я поневоле вспоминаю о прославленной чете глубокой древности; но эта-то сцена разыгрывается в новейшие времена, уже в христианском мире.
— Мои Филимон и Бавкида, — отвечал Гёте, — ничего общего не имеют с прославленной древней четою и с легендой о ней. Мою чету я нарек этими именами, чтобы сразу дать представление об их характерах. Это схожие люди, схожие обстоятельства, а потому здесь было вполне уместно повторить имена.
Потом мы заговорили о Фаусте; даже в старости он не избавился от прирожденной черты характера — недовольства. Владея всеми сокровищами мира, в им самим созданном государстве, он не знает покоя из-за двух липок, хижины и колокольчика, ему не принадлежащих. В этом он сходствует с иудейским царем Ахавом: тот ведь готов был отказаться от всех своих владений, лишь бы заполучить виноградник Навуфея.
— Фаусту в пятом акте, — продолжал Гёте, — по моему замыслу, как раз исполнилось сто лет, вот я и не знаю, может быть, мне где-нибудь сказать об этом пояснее.
Затем мы упомянули о развязке, и Гёте обратил мое внимание на место, где говорится:
(Перевод Б. Пастернака.)
— В этих стихах, — сказал он, — ключ к спасенью Фауста. В нем самом это все более высокая и чистая деятельность до последнего часа, а свыше — на помощь ему — нисходит вечная любовь. Это вполне соответствует нашим религиозным представлениям, согласно которым не только собственными усилиями заслуживаем мы вечного блаженства, но и милостью божьей, споспешествующей нам.
Думается, вы согласитесь, что финал — вознесенье спасенной души — сделать было очень нелегко и что, говоря о сверхчувственном, едва только чаемом, я мог бы расплыться в неопределенности, если бы не придал своим поэтическим озарениям благодетельно ограниченную, четкую форму христианско-церковных преданий и образов.
Недостающий четвертый акт Гёте написал за считанные недели, так что в августе вся вторая часть, полностью завершенная, была уже сброшюрована. Достигнув наконец цели, к которой он так долго стремился, Гёте был беспредельно счастлив.
— Дальнейшую мою жизнь, — сказал он, — я отныне рассматриваю как подарок, и теперь уже, собственно, безразлично, буду ли я что-нибудь делать и что именно.
Обедал с Гёте. Разговор о том, отчего так мало популярно «Учение о цвете».
— Его очень трудно распространить, — заметил Гёте, — поскольку тут, как вам известно, недостаточно читать и штудировать, туг необходимо «действовать», то есть ставить опыты, а это затруднительно. Законы поэзии и живописи тоже поддаются передаче лишь до известной степени, — ведь чтобы быть настоящим поэтом или художником, потребен гений, а как его передашь? Для восприятия простого прафеномена, для оценки высокого его значения и для уменья оперировать с ним необходим продуктивный ум, который в состоянии многое охватить, а это редкий дар, и встречается он только у избранных.