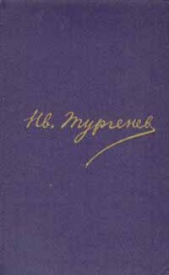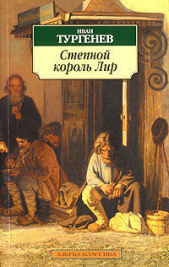Записки гадкого утёнка

Записки гадкого утёнка читать книгу онлайн
Известный в России, и далеко за ее пределами эссеист, философ и филолог выступает на этот раз с мемуарной прозой. Григорий Померанц пережил и Сталинград, и лагеря, и диссидентство, но книга интересна не только и не столько событиями, сколько рожденными ими мыслями и чувствами. Во взлетах и падениях складывается личность человека, и читатель вступает в диалог с одним из интереснейших современников и проходит вместе с автором путь духовного труда как единственную возможность преображения.
Сердечная благодарность от редакции сайта levi.ru и от Григория Соломоновича Померанца за труды над электронной версией книги — Кате Кривошей и Сергею Левченко, нашим сотрудникам и друзьям.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пастернак писал Цветаевой, что не мог бы всю жизнь прожить, как Адам, с одной Евой. Марина Ивановна с возмущением ответила, что Психею разлюбить нельзя. В этом споре я на стороне Цветаевой, — но, пожалуй, больше, чем она сама.
Нельзя разлюбить — значит нельзя исчерпать. А сама Психея? Умеет она — не исчерпывать?
Евой можно насладиться, как бутылкой хорошего вина. Так и говорят девушкам: «Выпьем бокал шампанского!». Но Психеей нельзя насладиться. В Психее есть что-то от второй строфы Гумилевского «Шестого чувства»: источник бесконечной радости (как в розовой заре над холодеющими небесами; как в бессмертных стихах). Психея собрала всю зарю в своих глазах. Тот, кто заметил Психею, не может ей изменить, не может от нее оторваться. Измена была бы чем-то вроде религиозного ренегатства, отказом от веры во имя мирской выгоды (мгновенная радость новой влюбленности — та же выгода).
Пастернак с этим не согласился бы. Лет через двадцать после обмена письмами — видимо, вспоминая их, — он написал апологию Евы (и своих увлечений Евами, красоту которых, очевидную, как сосны Шишкина, нет необходимости угадывать, извлекать из полутьмы):
Не знаю, что сказала бы в ответ Марина Ивановна; возможно — «залилась презреньем, как соловей песней». А я просто скажу: на пляже сердце у меня не сжимается. Обнаженность — призыв к радости. Волна легкого возбуждения. И всё. Перехват горла, сжатие сердца — от иного, от печати страдания:
Я думаю, что ранний Пастернак сказал лучше позднего:
Лирик верен минуте. То он живет на поверхности, то в глубине. Я предпочитаю стихи, родившиеся поглубже.
Я верю, что одна и та же любовь может углубляться бесконечно. Когда в женщине есть святыня красоты. Когда мужчина именно эту святыню ищет — и не устает раскрывать. Не цвет лица, не блеск глаз, а внутреннюю красоту, красоту озарения, самое обыкновенное лицо делающее прекрасным. Я не люблю слишком красивых, безупречно красивых лиц. Я понимаю слова Цветаевой: «Моя душа ревнива, она не допустила бы, чтобы я была красавицей». Мама — актриса — говорила мне, что слишком хорошие декорации мешают играть. Публика не должна любоваться подмостками, пусть она, глядя на скупо убранную сцену, с трепетом ждет актрису или актера. И своей любовью, своим ожиданием помогает ему стать прекрасным. Не красота творит любовь, а любовь — красоту. Аверинцев сказал о Венеции: «этот город любили не за то, что он красив, наоборот: он стал красив, потому что его любили». Когда Зина входит в лес, она хорошеет, потому что чувствует любовь Бога. И я радуюсь, что могу немного помочь Богу, вглядываясь в лицо, перекошенное судорогой, со всей нежностью, на которую я способен. Я видел все морщинки у глаз Иры — и расправлял их. Я вижу — а не только знаю — что Зине шестьдесят лет. У меня совершенно трезвые глаза, я не приписываю красоту тому, у кого ее нет, но я помогаю ей родиться. И поэтому старость и даже смерть любимой не властны надо мной.
То, что кончается, — не любовь, а влюбленность, притворившаяся любовью. Моя любовь к Ире не кончилась. Она просто стала другой. Нельзя любить тень так, как живую женщину. Любовь — служение, и служение тени отличается от служения живой. Оно может идти рядом с новой любовью и действительно шло и ничему не мешало (так же как ничему не мешает узнаванье духовных детей). Я вызывал из прошлого Иру, черту за чертой (любовь сотворила со мной чудо, я стал писателем), и показывал текст Зине, и мы вместе редактировали этот текст. И в то же время я вглядывался в Зину и шаг за шагом приближался — рядом с ней — к той глубине, на которой она жила. Шаг за шагом. На каждом повороте жизни — по-новому. И только недавно — захваченный узнаваньем так, как раньше меня захватывали идеи, — я вдруг понял, что имел в виду Мертон; почему экстатическое чувство радости — это еще не подлинное созерцание.
Я пережил с Ирой взлет в открытую вечности радость и часов пять или шесть плавая в свете (центр — в моей груди, граница — нигде). Еще один вершок вверх — и сердце бы разорвалось, не вынесло бы блаженства. Года через полтора — такой же потрясающий, опрокидывающий предел страдания: небо, расколовшееся над головой, и потом чувство разрубленности надвое, с половиной моего тела в земле. Чем сильнее радость, тем страдание глубже. (Мы срослись. Смерть разрубила по живому.)
А в Зинином взгляде были страдание и радость вместе. Не одно после другого, не одно рядом с другим, а вместе. И в первую нашу встречу, и потом — после заката, после Баха, после рублевского Спаса — этот взгляд ложился на меня тяжестью креста и требовал: раздели со мной это! И дойди до радости — сквозь это. Дойди до воскресенья. Не уклоняйся от вопроса:
Понимание неразрешимого, от которого некуда уйти, — это еще один шаг к истинному созерцанию (как будто в руку вложена записка и на нее немедленно ответь (О. Мандельштам). Вложена. И понимаю, что ответить. Но еще не могу раскрыть рта).
Христос говорил о себе: Я дверь. Не только Он. Слышу со всех сторон крики: ересь! — и все-таки говорю: всякий человек, который до любил и до страдал до Бога и которого чувствуешь и любишь до Бога, становится дверью к Богу. Единственной — для тебя. Потому что нельзя войти сразу в несколько дверей. Попробуешь — и будешь все время играть с дверными ручками. А белый огонь любви — это войти и стать двойной звездой. И потом оставить дверь открытой, оставить сердце открытым для всех, кому оно нужно. Но только сердце — и только сердцу. Каждому сердцу, полюбившему то, что мы любим. От этой открытой для всех двери к Богу — волны ликования, которые охватывают нас в солнечный зимний день, в обыкновенном московском лесу, ставшим волшебным под лучами Божьей любви.