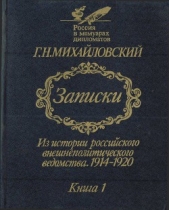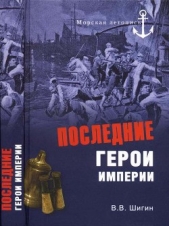Психофильм русской революции

Психофильм русской революции читать книгу онлайн
В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью. Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920). Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я изнемогал от усталости. Мы вышли наконец на большую дорогу. Нам нужно было идти в глубь страны. После некоторого разногласия мы сошли с дороги и пошли проселками, едва заметными под снегом. Скоро эти следы дороги сгладились, и мы шли на авось, придерживаясь лишь прямого направления. Была небольшая метель. Перчатки я потерял еще в селе Раскаец, и мои руки окоченели от холода. Мы рассчитывали выйти случайно к какому-либо селению. Это были последние мои усилия. Я шел шатаясь и чувствовал, что расходую последние силы. Мы не спали шестые сутки и почти ничего не ели.
В ногах чувствовалась боль. Между тем мои спутники ускоряли шаг и не обращали внимания на мои просьбы дать отдохнуть. Я сознавал, что если отстану, то рассчитывать на них не могу. Кругом была мгла. Ветер с холодным снегом задувал за воротник и в рукава. В спину морозило. Местами снег был по колено, так что идти было невероятно тяжело. Ветер дул в правую щеку и несколько сзади. Это было наше спасение. Попутный ветер как бы подгонял нас. Мы ориентировались по ветру. Метель была низовая, хотя и сверху шел снег. Временами выходили на дорогу, следы которой слегка обнаруживались из-под наметенного снега. Мы шли всю ночь и уже приходили в отчаяние, боясь до рассвета не добраться до такого места, где можно будет укрыться на день. Становилось светлее. Мы вышли на обледенелую гору, на которой ясно обозначились замерзшие колеи. Место было открытое. Мы спустились с горы и вошли по колено в сугроб. Здесь отчетливо была видна дорога. Нам повезло: мы наткнулись на хату, которая как бы выросла из-под земли. Это была, как мы узнали потом, деревня Чобричи. Вся надежда была на эту хату. Еще момент, и начнет светать. С волнением и сомнением мы постучали. Пожилая женщина отворила нам дверь и, узнав, что мы «с того берега», как бы даже обрадовалась. Шепотом она сказала нам, чтобы все скорее входили и, «Боже сохрани», не показывались во дворе: румыны ловят русских и гонят их обратно.
Нас приняли отлично, приветливо, ласково. В углу стоял киот с образами, а возле него на стене развешаны фотографии и портреты русских императоров. Хозяйка-молдаванка, ее муж и сын-подросток с интересом расспрашивали нас о России, о том, что творится «на том берегу». Они рассказывали, что многих таких, как мы, поймали и отправили на русский берег. Хозяйка приготовила нам мамалыжку, дала супу, яичницу с колбасой. Мы насытились и улеглись уже с рассветом на лежанке, уснув крепчайшим сном, каким только может спать совершенно обессиленный человек. Первый раз за все это время мы чувствовали себя сытыми. Я спал целый день. В Чобричах был румынский пост, и ежеминутно нас могли обнаружить. Мы ждали ночи, чтобы идти дальше, но тут нам пришла на помощь хозяйка. Она предложила нам, чтобы ее сын свез нас до села, отстоящего на шесть верст, и мы выехали в 11 часов, причем мальчик потребовал, чтобы мы полегли в сани так, словно он везет груз. Доктор Мельников в Чобричах от нас отделился, желая действовать самостоятельно. Нам говорили, что надо спешить уйти из этой пограничной полосы и идти внутрь страны, где нет такой строгости со стороны румынских властей. Но в следующей деревне нас предали и арестовали.
С этого дня начались новые мытарства по этапам. Но уже в конце концов нас не вернули на русский берег, так как, по слухам, нам передаваемым, румынская королева заступилась за русских перед своим демократическим правительством, до того времени предававшим русских, переходивших границу, на гибель.
Этой главой кончаю выписку из дневника моего брата.
Пройдут года, и вновь в обновленной России в модных ресторанах интеллигентная публика и офицерство будут слушать музыку разных Гулеску, Антонеску... забыв Днестровскую трагедию и восторгаясь страстными напевами румынских скрипачей. Все забывается, а русская душа отходчива. Она простит даже кошмары днестровских плавней. Цивилизованный же читатель будущего, ознакомившись с этой ужасной картиной, скажет: «Не может быть. Краски слишком сгущены!»
ГЛАВА XVIII
Новороссийск. Болезнь и лихорадочные грезы
Через это горнило в ужасающей обстановке проходили почти все, отдавая дань революции, и потому полезно эту страничку революции описать. Госпиталя и медицина были тесно связаны с революцией. Врачи работали в разных ролях и вымирали. И врачи у нас были разные: были чистые большевики, как доктора Брускин и Шнеерсон или мой ординатор Сегалин, - все евреи. Были «ловчилы», плывшие по ветру и умеющие приспособиться, пока не доедут до тихой масонской пристани. Были и чистые «черносотенцы» вроде меня. Но большинство людей было нейтральных, и, надо отдать им справедливость, они добросовестно работали при всех режимах, делая свое дело. Лечили мы и большевиков и чекистов. Спасали кого можно. В нас, как и в железнодорожниках, нуждались все режимы.
За годы революции я сам раза три лежал в госпиталях в качестве больного и перенес два приступа возвратного тифа, а в 1917 году - сыпной тиф. По крайней мере, его так диагностировали, и потому я не допускал возможности заболеть им вторично. Организм у меня был здоровый и выносливый, но я злоупотреблял небрежностью к своему здоровью.
Узнав о том, что я заболел, ко мне пришел генерал Розалион-Сошальский и настоял на том, чтобы я вызвал доктора. Я написал письмо доктору Френкелю, моему старому коллеге по Харькову. Он приехал и взял кровь для исследования. Определить болезнь еще нельзя было, но исследование крови показало присутствие плазмодий малярии. Это объяснило мне одесскую болезнь. К вечеру температура поднялась до 40,9. Ночь прошла тяжело. Наутро 10 февраля мне стало плохо, и окружающие - тогда все ко мне относились очень хорошо - забили тревогу. Пошли хлопотать, чтобы поместить меня в госпиталь. Приехал доктор Френкель и объявил мне:
- У вас, Николай Васильевич, сыпной тиф.
«Вот она, - подумал я, - очередь».
- Вас поместят в госпиталь.
10 февраля для меня было роковое число. Второй год подряд меня постигала катастрофа, согласно вещему сну, виденному мною в 1903 году именно по отношению к этому дню. Я припомнил это и рассудил: я еще довольно бодр и физически крепок. Вероятно, сегодняшний день проживу, а если выживу сегодня, то, значит, и оправлюсь. Я передал мешочек с деньгами, с документами и золотые часы генералу и просил в случае моей смерти передать оставшееся в пользу армии.
У меня появилась некоторая бодрость: это было лихорадочное возбуждение. Но я все отлично сознавал... Сестра отвезла меня в госпиталь, помещавшийся в зале кинематографа. Я в своем возбужденном состоянии был как будто бы доволен особенным случаем - что я заболел сыпным тифом во второй раз, и говорил, что в научном отношении это интересный случай. Потом я убедился, что первый раз тиф был ошибочно диагностирован. То был, вероятно, возвратный тиф. Я гордился тем, что заразился при исполнении своего долга на пароходе, и переоценивал это. Я еще сам вошел в палату.
Большой сарай весь вповалку был завален больными, Мне отвели место на матрасе на полу. Я стал раздеваться. На мне была та же военная шинель, великолепный мягкий теплый костюм и сапоги. Мне помог раз -деться бледный санитар из пленных красноармейцев, уже перенесший сыпной тиф. Я был как в тумане, однако созерцал окружающее и, помню, спросил его, откуда он. Он был из Костромы.
- А, - ответил я, - с родины русских царей!
Он спросил меня, куда девать вещи, на что я беспечно ответил: «Хоть к черту!»
Дитя революции поняло это всерьез, и от моих вещей не осталось и следа. Ограбляли в госпиталях больных начисто, рассчитывая, что все равно они не выздоровеют.
Я лег. «Ну, - думал я, - скоро потеряю сознание», - и старался уловить этот момент. Взор мой блуждал по карнизу потолка. И я думал, что болезнь долго будет тянуться.
Кругом лежали больные, почти все без сознания. Все мне виделось как в тумане, и я был словно пьян. Но я рассуждал как врач. Я осмотрелся. По моему расчету, шел пятый или шестой день болезни, потому что сегодня уже появилась резкая сыпь по всему телу. Я с изумлением глядел на свои ладони, которые сплошь были усеяны мелкими кровавыми точками, и считал, сколько дней надо вычеркнуть из жизни, и определил, что день кризиса ждать еще дней восемь. По вечной своей привычке я все анализировал, рассуждал. Думал я и о смерти. При высокой температуре у меня всегда угасает инстинкт жизни. Мысль о смерти переживалась академически, не вызывая никакого страха, и на ней я долго не останавливался. К вечеру я впал в забытье. Появилась очень сильная невралгическая боль в надглазничной области, которая длилась много дней, и я все хотел, чтобы она скорее прошла. Я думал, что и там должны быть мелкие кровоизлияния, которые я видел, когда мне приходилось вскрывать трупы умерших от сыпного тифа. Мне самому казалось, что я еще хорошо рассуждаю, но мои друзья, навещавшие меня, говорили мне потом, что я бредил и говорил ерунду. Я повторял себе, что все на свете проходит, пройдет и это. Я анализировал свой бред, как делал это часто по отношению к своим сновидениям, и думал потом написать об этом статью, что и выполнил через несколько лет в эмиграции. Но почему-то я не находил в себе бреда, который был в первую мою болезнь. Сыпь у меня была исключительно сильная, и мне ужасно хотелось показать ее доктору, словно похвастаться ею: «Вот-де какой у меня тиф!»