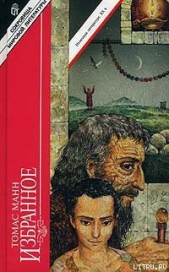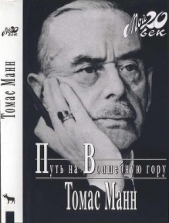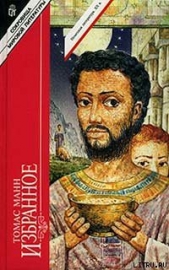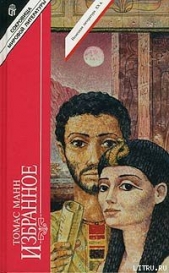На повороте
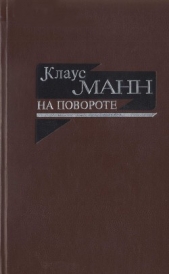
На повороте читать книгу онлайн
Клаус Манн (1906–1949) — старший сын Томаса Манна, известный немецкий писатель, автор семи романов, нескольких томов новелл, эссе, статей и путевых очерков. «На повороте» — венец его творчества, художественная мозаика, органично соединяющая в себе воспоминания, дневники и письма. Это не только автобиография, отчет о своей жизни, это история семьи Томаса Манна, целая портретная галерея выдающихся европейских и американских писателей, артистов, художников, политических деятелей.
Трагические обстоятельства личной жизни, травля со стороны реакционных кругов ФРГ и США привели писателя-антифашиста к роковому финалу — он покончил с собой.
Книга рассчитана на массового читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Для кого я пишу?» На сей раз вздыхаю не я или я вздыхаю все же чужим дыханием. Один из персонажей моего романа, молодой эмигрант Мартин Корелла, размышляет над романом об эмигрантах, который я заставлю его писать и который он, впрочем, никогда не закончит. В комнате тихо. Возлюбленный, его зовут Кикью, спит: после долгих разговоров и ласк без конца у него наконец все же сомкнулись глаза. Уже рассеивается мрак за большим окном мастерской. Темнота блекнет, бледнеет, светло-серые тона смешиваются в тени; новый день, наверное, скоро наступит. Час рассвета — лучший час Мартина. Он пишет;
«Для кого я пишу? Всегда писатели озабоченно думали об этом. И если они этого и не знали, все равно высокомерно и смиренно, гордо и безнадежно утверждали: для грядущих поколений! Не вам, современникам, принадлежит наше слово; оно принадлежит будущему, еще не рожденным поколениям.
Ах, но что знают о грядущих поколениях? Какими будут их игры, их заботы? Как чужды они нам! Мы не знаем, что они будут любить, что ненавидеть. Несмотря на это, обращаться мы должны именно к ним.
Горизонты нашего бытия омрачены. Плотно сгустившиеся тучи уже давно возвещают грозу. Это может стать ни с чем не сравнимой грозой. Катастрофы, однако, не продолжительное состояние. Небеса, которые мы видим сегодня так глубоко затененными, снова, вероятно, прояснятся. Будем ли мы, кто теперь борется и страдает, еще озарены этим новым светом?
В пути другие, товарищи помоложе, младшие братья — мы уже слышим их легкий шаг. Подумаем об этих, когда утомимся! Полюбим еще безымянных! Их чело еще чисто невинностью, которую мы давно потеряли. Наши юные братья не должны стать виновными, как наши отцы и мы. Они должны развиваться свободнее и быть лучше и красивее, смелее и благочестивее, умнее и мягче, чем это было позволено нам.
Улыбка мимолетной, рассеянной благодарности, с которой товарищи помоложе, может быть, вспомнят о нас, должна быть достаточной наградой. Когда-нибудь они, кого мы так охотно себе представляем счастливее себя, наткнутся на следы, свидетельствующие о наших страданиях и битвах — тех страданиях и битвах, которые нас сегодня целиком захватили, о важности и горечи которых у тех мальчиков, однако, будет весьма отдаленное представление. Тогда прервут они на краткое время свои игры и свои труды. На несколько трогательных секунд задумчивость омрачит их чело, подобно облаку, которое быстро исчезает. Они полистают, не без сочувствия и, быть может, не без внимания, эту хронику скитаний и сомнений. Потом у них, вероятно, возникнет догадка о том, сколько нам пришлось грешить и каяться, бороться, страдать, — и мы не забыты».
Ни одна из других моих книг не занимала меня так долго, как «Вулкан»; работа, начатая осенью 1937 года, была доведена до конца лишь спустя полтора года, весной 1939-го. Разумеется, существовали различные побочные обязанности, не только лекции и статьи, но и более крупные отвлечения. «Хотон Мифлин компани» в Бостоне — одно из виднейших американских издательств заказало нам с Эрикой книгу по возможности более объемную, более информативную о представителях искусства, науки и политики немецкой эмиграции, своего рода «Кто есть кто в ссылке»: очерк жизни, черты характера с интимно-занятными подробностями, а также и критику или по крайней мере оценивающий анализ. Получился весьма солидный том с несколько эвфемистическим названием «Escape to Life» [212], в 375 страниц, богато иллюстрированный, роскошно оформленный; впрочем, пользующийся порядочным успехом. Первая фотография запечатлела профессора Эйнштейна в белом льняном костюме на Observation Roof [213]Рокфеллеровского центра. Тут же напротив на титульном листе стоит в качестве эпиграфа фраза Дороти Томпсон: «Practically everybody who in world opinion had stood for what was currently called German culture prior to 1933 is now a refugee» [214].
Тех, о ком нам следовало рассказать, было много: романисты, поэты и драматурги, композиторы и виртуозы исполнители, художники и медики, философы и физики, актеры, певцы, режиссеры, журналисты, бывшие рейхсканцлеры, бывшие министры.
Рекламная аннотация, которой «Хотон Мифлин компани» украсила наш компендиум, наверное, не преувеличивала, обещая читателю: историю Альберта Эйнштейна и Томаса Манна; Брюнинга, Макса Рейнгардта, Арнольда Шёнберга и Эрнста Толлера; Георга Гроса, Лотты Леманн, Луизы Райнер, Бруно Франка и Лиона Фейхтвангера; Альберта Бассерманна, Зигмунда Фрейда, Стефана и Арнольда Цвейгов, Бруно Вальтера, Элизабет Бергнер и Ремарка. Не говоря уже о многих других.
Многие другие… Некоторые из них еще находились в Швейцарии, Голландии, во Франции, Англии, Скандинавии, в подвергающейся угрозе Чехословакии, даже в фашистских странах, как Италия, Венгрия, Португалия. Но чем более острой становилась ситуация в Европе, тем больше изгнанников, знаменитых и незнаменитых, устремлялось в Америку. На рубеже 1937–1938 годов важнейшим центром лишенной гражданства немецкой «интеллигенции» был уже Нью-Йорк.
В отеле «Бедфорд», расположенном в самом центре, на сравнительно тихой Сороковой улице, между деловой Лексингтон и фешенебельной Парк-авеню, полным-полно было товарищей по несчастью, почти как раньше в известных кафе Цюриха и Парижа. Мы с Эрикой принадлежали к завсегдатаям «Бедфорда». В то время как мы в своей комнате корпели над «Бегством в жизнь», описываемые в книге персоны, или по крайней мере некоторые из них, встречались внизу в баре на коктейле.
Кто присутствует на нем? Наш друг Мартин Гумперт {269} — врач, поэт, биограф, рассказчик; очень спокойный человек с круглой физиономией Будды, маленьким ртом и темными волевыми глазами. Во взгляде чувствовалась страстность, обычно скрытая за стоическим фасадом. Именно поэтому спокойствие производит столь убедительное впечатление: оно представляет собой обузданный темперамент, дисциплинированный огонь, не апатию или холодность. Характерная невозмутимость поэта-врача, которого не запугать, вскоре была увековечена, не самим Гумпертом, а автором тетралогии «Иосиф и его братья», в последнем томе которой черты нашего доброго друга носит достойно-доброжелательная фигура по имени Маи-Сахме. Что касается его собственной продукции, то и здесь казался, пожалуй, доминирующим элемент доброжелательно-достойного благоразумия и гуманной умеренности. Между тем в этом произведении имеются мгновения гордого полета, моменты подлинного вдохновения и пылкой взволнованности… Скрытый пыл слишком уж спокойного человека иногда может становиться пламенем, словом, художественно очищенным. В некоторых стихах и, еще более впечатляюще, в первом романе пятидесятилетнего писателя «День рождения» есть блеск.
Уже пятьдесят? Вот опять это безответственно-нетерпеливое высказывание, которое совсем не к лицу хроникеру, особенно когда речь идет об отнюдь не дерзко взмывающей, но скорее о спокойно шагающей фигуре, как Мартин Гумперт. Ко времени «Бедфорда» ему сорок и, между прочим, он только что прибыл в Нью-Йорк; на свой спокойный манер он будет на протяжении десяти лет осматриваться в великом городе, прежде чем с интимной нежностью знатока сможет описать его в «Дне рождения». Еще почти молодой или средних лет мужчина хочет на первых порах в новой стране устроиться практикующим врачом. Начать сначала; в середине жизни это будет нелегко, сознает этот сорокалетний, не пугаясь. Иллюзий у него нет, только надежда — надежда на Америку.
Другие более нервозны, но зато не менее предприимчивы. Курт Рисс, в до-гитлеровском Берлине спортивный репортер, пишет теперь по-французски для «Пари суар», он будет также писать еще и по-английски или, более того, по-американски о боксерах, кинозвездах, гангстерах, генералах, шпионах, наркотиках, высокой политике и любовной жизни Гитлера. «Я безусловно стану великим, уж будьте уверены!» Возражения, которого он, кажется, ожидает, не следует. Никто не сомневается в том, что он сделает карьеру. Но будет ли успех велик так, как того требует этот голодный, почти дикий взгляд? Курт расхаживает по комнате взад и вперед, по-петушиному горделивый, как если бы он уже победил, однако же суетливой походкой: преследуемый, который только еще в бесцельном беге находит своего рода сомнительную безопасность и нечто вроде успокоения.