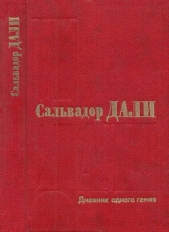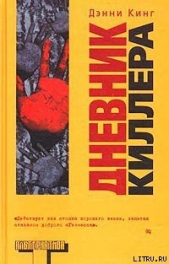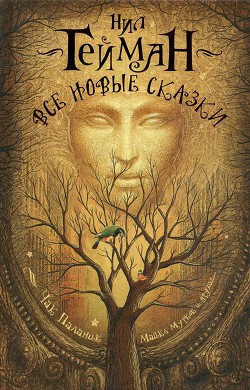Дневник (1901-1929)

Дневник (1901-1929) читать книгу онлайн
Трудно представить себе, что дневник пишут, думая, что его никто никогда не прочтет. Автор может рассчитывать, что кто-нибудь когда-нибудь разделит его горести и надежды, осудит несправедливость судьбы или оценит счастье удачи. Дневник для себя - это - в конечном счете - все-таки дневник для других
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
18 февраля (четверг). Был вчера с Марией Борисовной в кино. Впервые после огромного перерыва. Видел «Пат и Паташон». Чудесно, изящно, человечно. Забыл очки, позвонил Коле из Комедии, он — спасибо — привез.
Был вчера у Быстровой — выхлопотал кусок текста, запрещенный цензурой. Был в Финотделе. Был дважды в Большом Театре — у Пиотровского, по поводу «Апостолов». Просит подождать еще. Сдал Пиотровскому заметку о Монахове, написанную для юбилейного сборника, был в «Кубуче»—о тоска, тоска этого ужасного маршрута. Хлопочу о бумажке для того, чтобы не платить за квартиру 200 р. Тоска! Тоска!
Встретил Эйхенбаума в Финотделе. Ему совсем худо. Он произнес в Филармонии речь о Есенине — очень не понравившуюся начальству. Ждет теперь за это неприятностей. Ко мне он ласков и внимателен, а я чувствую себя так, будто у меня за пазухой камень.
Сегодня мой маршрут: в Госиздат, в «Кубуч», в «Радугу» — о! о! о!
19 февраля. Пятница. Вчерашний день черный, непростительный — ночь не спал — гнусное чувство — глаза болят. Читал всю ночь «Not at Night», сборник глупейших страшных рассказов.
Теперь читаю «Juno and the Paycock»5.
Сегодня в час у меня назначено свидание с Папаригопулой. Был вчера в Публичной Библиотеке, собираю матерьял о сказке.
Придумал перевести «Juno and the Paycock». Вспомнил вдруг из своего детства то, чего не вспоминал ни разу. Я казенничал. То есть надевал ранец, и вместо того, чтобы идти в гимназию, шел в Александровский парк. Помню один день — туман, должно быть октябрь. В парке была большая яма, на дне которой туман был гуще. Я сижу в этой яме и читаю Овидия, и ритм Овидия волнует меня до слез.— Был Сима Дрейден, рассказывает, что его брат Гриша слыхал из-за стенки такой разговор:
— Соломон, ты ведешь беспутный образ жизни. У тебя будет силифúс.
— Мамаша! Если у меня будет силифис, так я его буду лечить на свои деньги, а не на ваши... (Пауза.) Заели моего отца, а меня вам заесть не удастся.
22 февраля, вторник. Неужели этот дневник будет регистрацией моих неудач! Началось с Почтамта. Я поехал туда взять куклу, которую Ломоносова прислала Мурке. Оказалось: толпа человек около ста сбилась в груду в правом заднем углу Почтамта у 5 или 6 окошечек и смотрит сквозь решетку, как медлительные и неумелые люди вскрывают жалкие и скудные посылки и взвешивают каждую тряпку на весах. Я простоял там около 3 ½ часов!! Для того, чтобы получить куклу. Но куклы не получил. Когда вскрыли ящичек, в котором находится кукла, оказалось, что у куклы на голове шелковый бант, а шелк облагается страшною пошлиною — и вот за небольшую куколку хотят 25 рублей. Я выругался и поехал домой, а куклу оставил в Почтамте. Оттуда в «Кубуч». Обещают печатать «Некрасова» на этой неделе. Оттуда к Надеждину. За столом читка «Сэди». Грановская дала чудесный тон. Остальные, кажется, плоховаты. Особенно Надеждин, взявший себе роль пастора — и при малейшей эмоции впадающий в еврейский жаргон. Но дело не в этом, а в том, что пьеса вряд ли у Надеждина пойдет. В среду решится — играть ли ему или нет. В Александринке пьеса идет вовсю. Эти подлецы откладывают «Виринею» и «Отелло», лишь бы не дать Надеждину сыграть «Сэди».— Оттуда к Замятину, он спал, ибо всю ночь пьянствовал с Москвиным. Оттуда к Клячко. Пришел домой такой утомленный, что вот не сплю всю ночь.
Сейчас возьмусь за «Juno and Paycock». У Таты — первый зуб. У Бобы ангина. У Лиды доклад на семинарии Эйхенбаума. У Муры завтра рождение. Тоска, тоска! Написал с горя фельетон о детском языке и свез его в 8 часов утра в «Красную» к Кугелю. Расспрашивал Иону о положении газет. Теперь дело обстоит так: какой-то умный человек предложил уничтожить утреннюю «Красную» и вечернюю, которая при «Правде». Это было бы лучше всего. Остались бы: одна плохонькая утренняя и одна хорошая вечерняя. И денег сохранилось бы уйма. Но так как этот план очень талантлив, он ни за что не будет приведен в исполнение, и теперь мудрые головы решают, что надо бы слить две «Вечерние» — и дать им одно название, новое (то есть отнять у «Вечерней» то лицо, которое дало ей ее репутацию), а утренние газеты оставить по-старому, содержа их на счет этой вечерней газеты. Канитель, удушье, а мой роман гниет, и его гниению не видно конца.— Познакомился с Сергеем Томским. Он похож на «Птицелова» с перовской картины — очень жанровый человек, бытовой, трактирный.
24 февраля. Среда. Был вчера снова на почте — получил куклу за 25 рублей 57 копеек. Потом у Клячко получил Ł 30. Коля получил квартиру через Симона Дрейдена — но нужно 300 въездных. М. Б. дает ему 50 р. Сегодня утром был в «Красной», держал корректуру «Детского языка». Фельетон всем понравился,— даже корректорша подошла ко мне и сказала, что «прелесть». Иона говорит, что теперь решено слить обе газеты — и что именно так и будет, п. ч. это — глупее всего. Credo quia absurdum [ 93 ]
25 февраля. Четверг. Вчера было нашествие всевозможных людей. Был у меня Адриан Пиотровский. Выслушал два акта переведенной мною пьесы. Ему понравилось, но не очень. Я тоже убедился, что пьеса — «так себе», и решил 3-го акта не переводить. Пиотровский готовится к юбилею Монахова, который назначен на 17 марта. Пригласили в Комитет и меня.
Пришел очень высокий студент Института Истории Искусств за рукописями каких-нибудь писателей, я дал ему рукописи Куприна, Ал. Ремизова, Мандельштама и Мережковского.
Пришел поэт Приблудный. За детскими книжками. Читал свои стихи. Он молод, талантлив, силен и красив,— но талант у него 3-го сорта: на все руки. Он и на пианино играет, и поет, и рисует,— при полном отсутствии какой бы то ни было внутренней жизни. Стихи у него так и льются — совсем как из крана. Очень много дешевки и, как это ни странно, надсоновщины.
Боба встал с постели.
Мурины именины протекали пышно. К ней с раннего утра пришла прачкина внучка Виктя — белая и круглолицая, вялая. Они вдруг выдумали, что я — Баба Яга, которая хочет их съесть, и похитили у меня ножик для разрезания книг. Я бегал отнимать у них ножик. Они визжали и убегали — в восторге веселого ужаса. Потом мы стали прятать этот ножик в столовой — и кричать «холодно», «жарко», когда они искали его. Это было очень весело—и я был раздосадован, когда во время этой игры пришел Пиотровский.
Потом пришла к Мурочке какая-то робкая трехлетняя девочка, которая все время просидела в кресле — и боялась, когда я подходил к ней.
Потом пришел ее кумир, Андрюша. Мы играли все втроем в кораблекрушение и в разбойников. (Забыл записать, что еще до прихода Андрюши мы играли в спасение погибающих — я тонул, они вытаскивали меня из воды — и я за это давал им медаль, полтинник, прикрепленный к бумажке сургучом.) Потом пришли к Муре Агатины дети — две очень милые девочки, потом Татьяна Александровна, потом Редьки, принесли медвежонка, посуду и дивную куклу — очень художественно исполненную — русская золотушная девчонка из мещанской семьи, которых так много, напр., на Лахте. Мещане любят называть таких девчонок Тамарами.
Мы сидели за столом и клевали носом. Мне хотелось спать. Поболтали о всякой ерунде и разошлись. Александр Мефодьевич Редько рассказывал, что во главе какой-то железной дороги теперь стоит стрелочник, и это несомненное повышение, ибо сперва был столяр (из ж.-д. мастерских), потом — смазчик, есть надежда, что лет через десять во главе дороги встанет кондуктор. Это будет «повышение квалификации». Рассказывал также о том, что один выпущенный из тюрьмы получил уведомление за несколькими подписями — «явиться за старыми подтяжками и отточенным карандашиком», которые были отобраны у него при водворении в тюрьме, но о золотых часах и запонках в этом уведомлении не было сказано ни слова — словом, «все было беспокойно и стройно, как всегда»6 — и мне, как всегда, казалось, что пропадает что-то драгоценное, неповторимое, что дается только однажды,— что-то творческое, что было кем-то обещано мне и не дано.