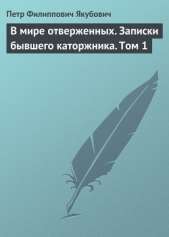Записки пожилого человека

Записки пожилого человека читать книгу онлайн
Лазарь Лазарев — литературный критик «новомирского» ряда, один из старейшин современного литературоведения и журналистики, главный редактор пользующегося неизменным авторитетом в литературном и научном мире журнала «Вопросы литературы», в котором он работает четыре с лишним десятилетия. Книга «Записки пожилого человека» вобрала в себя опыт автора, долгое время находившегося в гуще примечательных событий общественной и литературной жизни. Его наблюдения проницательны, свидетельства точны.
Имена героев очерков широко известны: В. Некрасов, К. Симонов, А. Аграновский, Б. Слуцкий, Б. Окуджава, И. Эренбург, В. Гроссман, А. Твардовский, М. Галлай, А. Адамович, В. Быков, Д. Ортенберг, А. Тарковский.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потом шок от сообщения 4 апреля притупился, сгладился. Потом был арест, суд и расстрел Берии и его приспешников. Потом был доклад Хрущева на XX съезде партии, в котором разоблачались злодеяния Сталина. Многое очень важное было потом.
И все-таки сообщение 4 апреля было первым покатившимся с горы камнем из казавшейся нерушимой твердыни тоталитарного строя.
Первые слухи о докладе Хрущева на XX съезде КПСС дошли до нас в «Литературную газету» уже на следующий день — кто же, как не газетчики, первым узнает о такого рода новостях? Странное это чувство, когда ты раньше других — практически почти всех — людей узнаешь о каких-то важных, иногда судьбоносных событиях, — словно ты в чем-то виноват перед теми, кто еще не знает, что день грядущий им готовит. Едешь поздно вечером домой, везешь с собой только что напечатанный завтрашний номер, в котором публикуется, скажем, сообщение о пленуме ЦК, осудившем «антипартийную группу» Маленкова, Молотова, Кагановича и «примкнувшего к ним» Шепилова, и, глядя на пассажиров троллейбуса, думаешь: а ведь они еще ничего не знают об этом событии, от которого зависит будущее страны и их жизнь. Только завтра прочитают об этом или услышат по радио. В ту пору такого рода официальные материалы радио передавало лишь после того, как они напечатаны в газетах.
Те, кто из первых рук узнал что-то о докладе Хрущева, рассказывали в редакции, что делегаты съезда воспроизводят лишь отдельные эпизоды, толком пересказать доклад не могут — то ли боятся, предупреждены, что услышанное надо держать в тайне, то ли не пришли в себя от услышанного, находятся в каком-то шоковом состоянии. Постепенно из разных рассказов мы узнали многое из того, что говорил Хрущев в докладе. Когда в марте в редакции читали этот доклад, мы уже были, в общем, как будто бы готовы к тому, что нам предстояло услышать.
И все-таки для меня и, думаю, для большинства моих товарищей доклад Хрущева был потрясением. И дело не столько в самих по себе ужасающих фактах расправ и жертв, которые были обнародованы, — и до съезда многим из нас приходилось слышать о том, что творилось в застенках НКВД и лагерях ГУЛАГа, — а прежде всего в том, что об этом сказано в докладе на съезде, а не полушепотом на кухне в компании верных друзей, что читается этот доклад на собраниях, которые проходят по всей стране, а не доводятся лишь до узкого круга избранных, тщательно проверенных, у которых к тому же берут расписку о неразглашении.
Я возвращался после собрания домой, стараясь привести в порядок смятенные мысли и чувства, оценить значение этого поразительного документа. В пустынном, скупо освещенном переулке навстречу мне нетвердой походкой шел немолодой человек рабочего вида, разговаривавший сам с собой. Когда он приблизился, я разобрал фразу, которую он все время повторял, воспроизвожу ее, используя заимствованный в «Одном дне Ивана Денисовича» эвфемизм. «Фуй ты, а не отец родной», — говорил прохожий с непередаваемой словами интонацией, в которой сливались горечь, гнев и презрение. Нетрудно было догадаться, что он так же, как я, выслушал сегодня у себя на работе доклад Хрущева, так же, как я, был ошеломлен услышанным, крепко выпил, чтобы прийти в себя от пережитого потрясения. И теперь пытается сформулировать свое новое отношение к Сталину. Он был так поглощен этим, вел такой напряженный разговор с самим собой, что прошел мимо, не заметив меня, не снизив голоса.
Я рассмеялся — эта мимолетная встреча помогла мне разрядиться. Но рассмешившая меня нецензурная формула прохожего была не только забавной. Она свидетельствовала о начинавшихся серьезнейших переменах в общественном сознании. Нечто похожее на то, что я услышал, говорили тогда многие. Через несколько лет Александр Галич написал песню, в которой лагерный «кум», сообщая, что на «съезде славной нашей партии» «особо встал вопрос про Отца и Гения», так излагает его суть: «Оказался наш Отец не отцом, а сукою».
По мифу, созданному в годы сталинской диктатуры, был нанесен удар огромной разрушительной силы, тоталитарная власть лишилась нравственно-идеологической опоры. Эпоха истовой веры кончилась.
В январе 1962 года я приехал в Малеевский дом творчества. В то время завершалась развернутая по решению XXII съезда КПСС кампания по очистке страны от памятников и бюстов Сталина. Виктор Некрасов, попавший в Малеевку за несколько дней до меня, сказал: «Я покажу тебе потрясающую вещь!».
Он повел меня через овраг к местной школе. Там, на поляне, полузасыпанные снегом, сиротливо стояли, видимо, свезенные со всей округи бюсты Сталина разной величины — несколько десятков. «Жаль, нет фотоаппарата, и ты не привез, — сказал Некрасов. — Надо бы сфотографировать. И надписать: „Урок истории“».
Как-то на «Мосфильме» в предбаннике зала для звукозаписи я увидел груду выброшенных грампластинок. Посмотрел одну, другую, третью — это были записи докладов и выступлений Сталина. Видно, выбросили за ненадобностью альбомы, прежде хранившиеся в качестве ценного НЗ.
Одну пластинку из любопытства решили послушать. Попалось окончание доклада о конституции: Сталин произносил одну, последнюю фразу, а дальше — оба оборота пластинки, — как писали в газетных отчетах, бурные, несмолкающие, переходящие в овацию аплодисменты, провоцируемые время от времени лозунгами и призывами, которые выкрикивали клакеры.
К этому времени мы уже отвыкли от такого ритуала — сначала смеялись, острили, но конец слушали в мрачном молчании…
Пятидесятилетие смерти Сталина отметили с большим размахом. Почти неделю крутили фильмы о «главном» и исполняли песни, которые должны были вызвать ностальгию по великой эпохе, когда был порядок и снижали цены, не давали ходу евреям и на рынках не мозолили глаза лица кавказской национальности. Даже устроили выставку диковинных подарков, которые в свое время истово верующие преподнесли своему божеству (правда, это священнодействие говорило не столько о любви, сколько о дикости дарителей, больше всего напоминая жертвоприношение). Потрудились и некоторые газеты, соревнуясь, кто задушевнее, кто громче споет свою песню о вожде и учителе. Особенно отличились политики той породы, которую в Германии называют «вечно вчерашними», и генералы, полководческий талант которых проявился в воинственных речах. И если бы великий вождь встал из гроба, они немедленно усадили бы его на трон генсека, заодно восстановив в самодержавных правах «ум, честь и совесть нашей эпохи». Не зря на их митингах портреты Сталина в мундире генералиссимуса выносят как иконы. Вот что им снится, вот о чем они мечтают. Разве могли они не воспользоваться такой датой!
А вот по части задушевности всех заткнул за пояс режиссер Василий Пичул, снявший трехсерийный телевизионный фильм «Сталин. Некоторые подробности частной жизни», который в самое удобное время был преподнесен зрителям первого канала. И подробности, которые он раскопал, чтобы поделиться ими со зрителями, столь трогательны, душещипательны, что даже у людей с черствым сердцем должны были наворачиваться на глаза слезы. Можно ли не посочувствовать человеку, у которого так несчастливо сложилась жизнь? Родился в бедной, неблагополучной семье, отец плохо обращался с матерью, а потом, кажется, вообще исчез, бросил ее с сыном на произвол судьбы. В юности бедняга писал стихи, что-то даже напечатал, но их не оценили. Первая жена-красавица умерла молодой, оставив ему сына, которого ему пришлось растить одному. Вторая жена — тоже красавица — покончила собой, оставив ему двух детей. И он, бедолага, с ними маялся, натерпелся от них. Старший женился без его разрешения на женщине, которую он видеть не хотел, а в войну к тому же попал в плен. Младший пил и безобразничал. Дочь тоже крутила романы с молодыми людьми, которых, он считал, и на порог нельзя пускать. Ну как, выслушав собранные в фильме душещипательные рассказы тех, кому приходилось с ним общаться, не пожалеть этого одинокого, несчастного человека. Можно ли осуждать его за то, что от такой жизни стал он тираном и извергом?