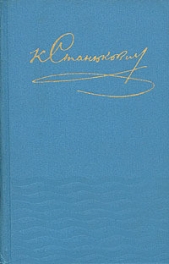Сборник статей, воспоминаний, писем
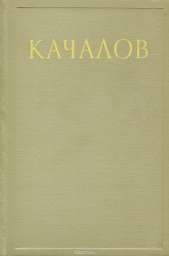
Сборник статей, воспоминаний, писем читать книгу онлайн
Задача этой книги - запечатлеть в статьях, воспоминаниях и письмах образ гениального русского артиста, вдохновенного художника советского театра Василия Ивановича Качалова. В книгу входят статьи, речи, воспоминания и письма В. И. Качалова, статьи и воспоминания о В. И. Качалове П. А. Маркова, Т. Л. Щепкина-Куперника, Н. Д. Волкова, Н. М. Горчакова, В. Я. Виленкина, О. В. Гвоздовской, Н. К. Черкасова, Е. Д. Стасова
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
"Преодолевающий и одновременно разрушающийся, -- отвечал ему присутствовавший на этой репетиции Вл. И. Немирович-Данченко.-- Зацепите эту основную трагическую ноту, и тогда все станет на верный путь" {Дневник репетиций. Запись В. В. Глебова.}.
И бывали замечательные, незабываемые репетиции, когда Качалову удавалось, начиная монолог, как будто ощутить гнетущий груз прожитых пяти лет, надежд, разочарований, тщетных усилий и тяжелых ударов, когда он весь отдавался самочувствию бессонной ночи в пустынном кремлевском дворне, когда из желания осмыслить, найти причину невыносимой тоски вырастал, как огромный вздох, его приговор самому себе: "Мне счастья нет".
Сами собой исчезали тогда парадно красивые мизансцены и жесты "величавого, романтического" Бориса. Качалов стоял неподвижно, словно вглядываясь через воображаемое дворцовое окно бутафорской репетиционной "выгородки" в темноту московских улиц. И в строгой музыке ничем не украшенного пушкинского стиха разворачивалась тревожная, ищущая мысль Бориса -- Качалова, как будто стремясь преодолеть это предельное одиночество.
Репетиции в фойе, за столом и в приблизительной "выгородке", обозначающей простыми холщевыми ширмами контуры будущих декораций, были необходимы в особенности для первых двух монологов, для сцены в царских палатах с детьми Годунова и с Шуйским и для последней -- предсмертной сцены Бориса с Басмановым и Феодором. Картины "Царская дума" и "Площадь перед собором в Москве" (с Юродивым) вообще репетировались гораздо реже, с расчетом доработать их уже после перенесения спектакля на сцену. В процессе репетиций в фойе они включались в работу от времени до времени; Качалову они были важны, как необходимые звенья в развитии основной трагической коллизии роли.
Но чувствовалось, что не эти картины находятся в центре его творческого внимания, что они его пока особенно не волнуют, что основные внутренние задачи он стремится разрешить в сценах интимных и в основных монологах. Среди этих сцен, занимавших главное место в репетиционной работе Качалова, две были наиболее законченны и почти всегда производили потрясающее впечатление на всех, кому выпадало на долю счастье их видеть: это -- сцена с Шуйским и в особенности предсмертная -- прощание с сыном.
Вот где могучим взлетом трагедийного темперамента Качалова разрушалось предвзятое мнение о "нетеатральности" или о непреодолимой трудности драматургии Пушкина. Подлинный, театр Пушкина открывался перед нами в напряженности и силе живых страстей, в совершенной поэтической гармонии их воплощения, когда Качалов подходил к этим вершинам своей роли, отбрасывая свободно и смело мишуру театрального "представления" и эффекты поверхностной патетики, отметая, как ненужный сор, все маленькие бытовые "правды" и "оправдания" бессильного прозаического натурализма.
Диалогу с Шуйским предшествует сцена Бориса с детьми. Качалов строил ее на резком контрасте с монологом "Достиг я высшей власти...", в конце которого так ярко запоминался его подавленный усилием воли заглушённый стон: "Да, жалок тот, в ком совесть не чиста".
Здесь, в общении с Ксенией и Феодором, он казался просветленным и успокоенным, как будто сбросившим тяжелый груз со своих плеч.
Что, Ксения? что, милая моя?
В невестах уж печальная вдовица!..
Ксения -- как бы часть его несчастья. К ней -- нежность, смешанная с острой жалостью, и с ощущением своей невольной вины ("я, может быть, прогневал небеса..."). Качалов -- Борис, подходя к ней, обнимает ее, нежно целует в лоб, гладит по волосам, положив ее голову к себе на грудь, и тут же с легким вздохом отпускает, как будто с облегчением, словно бессознательно торопясь обратиться к сыну, к своей гордости и надежде. Стоя, посадив царевича снова за стол " опершись на его плечо, Борис внимательно рассматривает карту. Наставление Феодору ("Как хорошо! вот сладкий плод ученья!.. Учись, мой сын...") звучит с необыкновенной теплотой, сдержанно-ласково, но вместе с тем и настойчиво-требовательно, со страстным желанием внушить ему всю важность, всю огромность ожидающего его государственного дела. В тоне Качалова -- Бориса нет и тени покровительственного или любовно-несерьезного отношения к бойким ответам сына: он так и впился в учебную карту Феодора ("наше царство из края в край") и, кажется, не оторвался бы от нее, если бы не вошел Семен Годунов.
Борис сидит у стола, на котором разложена карта. Не изменяя мизансцены, как будто желая продлить эти минуты покоя, счастья и в то же время уже зная, что сейчас все это кончится, уже внутренне приготовившись для дальнейшей борьбы, встречает Борис доклад Семена Годунова о гонце из Кракова и тайной беседе Шуйского с Пушкиным. Короткие реплики царя, который слушает Семена, не отрываясь от карты, звучат устало и раздраженно: "Ну?", "Гонца схватить", "О Шуйском что?", "Сейчас послать за Шуйским".
Годунов уходит, и Борис уже не скрывает своей тревоги:
Сношения с Литвою! это что?..
Противен мне род Пушкиных мятежный,
А Шуйскому не должно доверять:
Уклончивый, но смелый и лукавый...
Качалов произносит первые два стиха этого короткого монолога, глядя прямо перед собой тяжелыми, остановившимися глазами; потом обращается к сыну, как бы привлекая его к государственным делам. При входе Шуйского он снова углубляется в разглядывание карты, обняв правой рукой стоящего рядом сына. Но теперь это уже тактический прием, выгодная позиция для предстоящей борьбы с хитрым и сильным противником. Тон его подчеркнуто спокоен, уравновешен, в нем нет и следа тревоги, он полон достоинства; порой в нем вдруг сверкнет злым блеском отточенная ирония. Борис словно на лету подхватывает реплики Шуйского:
Шуйский
Царь, из Литвы пришла нам весть...
Царь
Не та ли,
Что Пушкину привез вечор гонец.
Шуйский
Всё знает он! -- Я думал, государь,
Что ты еще не ведаешь сей тайны.
Царь
Нет нужды, князь: хочу сообразить
Известия; иначе не узнаем
Мы истины.
Шуйский (M. M. Тарханов) начинает издали, говорит медленно и осторожно, словно нащупывает дорогу в темноте. Он избегает встречаться глазами с царем, но изредка бросает на него короткий, острый, испытующий взгляд. Когда в конце своего рассуждения о "бессмысленной черни" он, вдруг оставив елейный тон и прямо глядя на царя, тихо и серьезно произносит: "Димитрия воскреснувшее имя", Борис вскакивает, как ужаленный. Секунда полной растерянности. Искаженное страхом лицо. И первое движение -- к сыну: сохранить его неведение, оберечь его чистоту. Он берет его за плечо и хочет проводить к двери, ласково, но настойчиво почти выталкивает из палаты.
Следующий монолог Бориса написан Пушкиным в особом ритме: сильные синтаксические паузы внутри стиха разрушают его плавность. Эти внутренние толчки подчеркивают волнение Бориса в ритмическом рисунке его речи:
Царь
Послушай, князь: взять меры сей же час;
Чтоб от Литвы Россия оградилась
Заставами; чтоб ни одна душа
Не перешла за эту грань; чтоб заяц
Не прибежал из Польши к нам; чтоб ворон
Не прилетел из Кракова. Ступай.