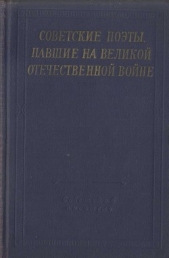Последние поэты империи: Очерки литературных судеб

Последние поэты империи: Очерки литературных судеб читать книгу онлайн
Известный критик и литературный боец, главный редактор газеты «День литературы» Владимир Бондаренко представляет на суд читателей уникальную книгу: в ней сошлись, а значит, «примирились» поэты разных направлений, потому что все они — наша история, как уже стали историей СССР, большой стиль, XX век. Это и энциклопедическое собрание творческих портретов видных русских поэтов второй половины XX столетия, и автобиографическое повествование о бурных событиях, потрясших Советскую империю, и воспоминания об ушедшей — яркой и трагической — литературной эпохе, на глазах превращающейся в величественный миф. Независимо от эстетических школ, политических воззрений все герои этой книги объединены одним — они последние поэты империи: Николай Тряпкин и Леонид Губанов, Николай Рубцов и Иосиф Бродский, Татьяна Глушкова и Белла Ахмадулина, Юрий Кузнецов и Олег Чухонцев, Владимир Высоцкий и Юнна Мориц, Игорь Тальков и Геннадий Шпаликов… Книга безусловно заинтересует не только любителей поэзии, но также преподавателей и студентов гуманитарного направления.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но прежде чем сгореть в огне поэзии, Татьяна Глушкова, а вернее, само Провидение затушило в ней прежний, тлеющий многие годы огонь губительной хвори, готовя ее для иного, более величественного Костра Истории. Умереть от своей будничной болезни после цикла «Всю смерть поправ…» Глушкова просто не имела права. Ей суждена была другая участь.
Всю смерть поправ своею краткой смертью,
повергнув в гибель недругов лихих,
одну — под всей крутой небесной твердью —
узрят они Россию во благих.
(«Сороковины», 12 ноября 1993)
Характерно, что такая мощная гражданственная лирика зазвучала у поэта, ранее отнюдь не числящегося среди мастеров политической публицистики. Скорее ценили ее верность традициям русской классики, некую тонко очерченную философичность стиха, сопереживали ее предельно раскованным любовным строкам.
Татьяна Глушкова на самом деле оказалась ярким, стремительно пролетевшим метеоритом в русском литературном пространстве. Ее не успели еще толком оценить и полюбить национально ориентированные мыслители и публицисты, не успели разлюбить ценители чистой поэзии, как метеорит сгорел дотла, оставив след легенд, полемик, человеческих страстей, но, главное, оставив классические, таинственные в своем провидении строки.
Когда не стало Родины моей,
Тот, кто явился к нам из Назарета,
осиротел не менее поэта
последних сроков Родины моей.
(«Час Беловежья», апрель 1992)
Конечно же, унижением России был унижен и Христос. Уничтожением Державы нанесли осознанный удар по всему истинно христианскому миру. Ибо и в горестях своих державных, и в трагедиях больших и малых, и в присущих нам слабостях и пороках, даже в богоборчестве своем несли мы все семьдесят с лишним лет советской власти и некий крест служения добру и противостояния злу, наживе и алчности. Все-таки провидчески сказано у Александра Блока: «В белом венчике из роз — / Впереди — Исус Христос». Была у нашей Державы некая мистическая задача удержания мира. Сегодня задним умом это начинают понимать многие здравомыслящие люди самых разных взглядов и возрастов, понимать, теряя последние надежды… Без великой России мир летит в пропасть на глазах у всего человечества.
Осиротевшая поэтесса чувствовала, на что она обречена, осознавая себя «поэтом последних сроков». Ее перо выводит классические, по-тютчевски философские строки: «Но был весь мир провинцией России, / теперь она — провинция его…». Сумеет ли теперь высокомерный мир оценить и сохранить эту свою провинцию? Поймут ли немцы, американцы, японцы, израильтяне, что они потеряли вместе с развалом СССР?
Конечно же, Татьяна Глушкова — в литературном плане — прямая наследница, а в чем-то и подражательница и Некрасова, и Ахматовой, и Грибоедова, и Тютчева, и Блока. И если бы не ее подлинная трагическая горечь последних лет, то, забыв о былых пожарах любви, с возрастом она погрузилась бы в чистый книжный неоклассицизм, и любители ее филологических стихов с удовольствием бы разгадывали вязь ее непроизвольных творческих заимствований из русской классики, откуда столь знакомая интонация:
Отложить бы ее на потом,
эту речь: как жилось ей в пустыне,
Русской Музе, степной Магдалине,
с горьким взором, завязанным ртом…
(«Отложить бы ее на потом…», 10 февраля 1993)
Откуда любовь к русскому анапесту, откуда христианские мотивы, откуда историзм:
Этот русский анапест, что плачет во имя любви,
в темной шали крест-накрест, живет не в эпохе — в крови.
А эпоха ему не соперница и не жена:
ничего-то не ведает в лунах и струнах она!
(«Этот русский анапест…», 1982)
Помню, Вадим Кожинов в разговоре со мной на поэтическом вечере в Политехническом музее, где выступала и Татьяна Глушкова, приводил немало сравнений ее стихов со стихами русских классиков. Но пусть эти точные поэтические параллели проводят теперь уже дотошные литературоведы нового столетия, я их вижу, чувствую, и — достаточно. К счастью, не в этом суть ее творчества, и никак не сводима она к одним параллелям. В большой поэзии смысл невыразим. Мне ценно в ее ранней и поздней поэзии другое — страстное, прорывающееся сквозь ее мощный ум и философичность, сквозь ее книжность и начитанность, сквозь ее классическое наследное убережение традиций, бездонно трагичное чувство. Поэтический темперамент побеждает философскую рассудочность:
А на сердце — и холод, и зной,
все безмолвие русской Голгофы.
(«Отложить бы ее на потом…»)
Татьяна Глушкова — каллиграф стиха. Она всегда доводит его до состояния законченности, но самые проникновенные и исповедально-ранимые строки — уже не от имени Музы печальной, не от наследницы традиций классических, а от себя самой — она оставляет напоследок, на финал стихотворения. И финал этот, несмотря на трагизм ухода, как правило, исторически оптимистичен. Поэт оставляет надежду уже не себе, а другим, будущим.
И у Кремля заплещутся сирени,
Смывая прах поверженных знамен.
А мы, — не плачь, — мы будем только тени,
из Смутных залетевшие времен.
(«Просохнет кровь…», 23 ноября 1994)
И ради этих будущих времен, сквозь кромешный миг, во дни Армагеддона{35}, когда вдоль окон плывет плененная Иродом Москва, поэтесса возлагает свой букет прощальных астр на тайный погост погибших за Россию, и, несмотря на лютующую злобу бесовщины, ее «музы — тайно водят хоровод, / и лучшая — о родине поет, / мятежная, восставшая из гроба…»
Как не побоялась Татьяна Глушкова откликнуться на смертный призыв этой мятежной музы? Где взяла мужество? Интуитивно ведь чувствовала, что погружается в опаснейшую из бездн. По сути одна встала в русской поэзии в октябре 1993 года — посреди России противу всех ее врагов…
Но поутру, когда упал солдат
последний наш, и вроде — взятки гладки,
под окнами прошел крылатый Дант
в пропахшей адским чадом плащ-палатке.
(«Останкино. 3 октября 1993 года»)
Или на самом деле сработала перекличка двух эпох: Великой Отечественной войны и нынешней, не менее трагичной для судеб России? Поколение детей войны — последние живые свидетели той жестокой, гибельной, но все-таки победной войны.
Родилась Татьяна Глушкова в декабре 1939 года, и совсем маленькой попала в военную круговерть. Вместе с родителями, учеными-физиками, отступала из Киева, будто это про нее Анна Ахматова сказала: «…у девочки биография, в два года она пешком уходила от немцев». Уходила, но не ушла, попав в оккупацию. И это — тоже сквозная тема ее поэзии: «Все называется: война. / Все называется: „под немцем“. / Под ним — и осень, и весна, / и две зимы, и та сосна, / и этот луг…» (1979).
Как считает сама поэтесса: «О детстве, подсвеченном огненным заревом небывалой войны, о детстве на черном пожарище можно было б уже и не поминать, когда б не оттуда — мне кажется — и тип поведения человека сегодня — в условиях, столь похожих на бедствие тех трагических лет…»