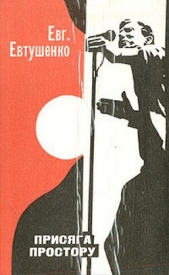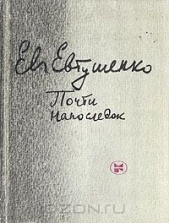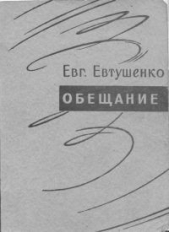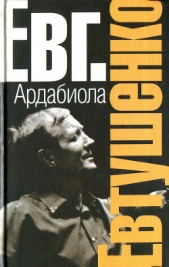Евтушенко: Love story
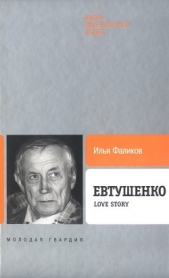
Евтушенко: Love story читать книгу онлайн
Поэт Евгений Евтушенко, завоевавший мировую известность полвека тому, равнодушием не обижен по сей день — одних восхищает, других изумляет, третьих раздражает: «Я разный — я натруженный и праздный. Я целе- и нецелесообразный…» Многие его строки вошли в поговорки («Поэт в России — больше, чем поэт», «Пришли иные времена. Взошли иные имена», «Как ни крутите, ни вертите, но существует Нефертити…» и т. д. и т. д.), многие песни на его слова считаются народными («Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую…», «Бежит река, в тумане тает…»), по многим произведениям поставлены спектакли, фильмы, да и сам он не чужд кинематографу как сценарист, актер и режиссер. Илья Фаликов, известный поэт, прозаик, эссеист, представляет на суд читателей рискованный и увлекательнейший труд, в котором пытается разгадать феномен под названием «Евтушенко». Книга эта — не юбилейный панегирик, не памфлет, не сухо изложенная биография. Это — эпический взгляд на мятежный XX век, отраженный, может быть, наиболее полно, выразительно и спорно как в творчестве, так и в самой жизни Евг. Евтушенко. Словом, перед вами, читатель, поэт как он есть — с его небывалой славой и «одиночеством, всех верностей верней», со всеми дружбами и разрывами, любовями и изменами, брачными союзами и их распадами… Биография продолжается!
Знак информационной продукции 16+
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он сам распорядился своим багажом. Станция Зима, слава Богу, не была транзитным пунктом его биографии. Распахивая чемодан, он жадно вдыхал запах тайги, перебирал цветы и ягоды, всматривался в лица сибирской родни, глядящие из зеркал таежных родников.
Это правда, он оттуда. Экзотические наряды его будущего непрерывного костюмированного бала, фестивальная фейерверочность, игра в заморского гуся, драгметаллы и камни браслетов, перстней и колец — плод тех вкусов, что образовались на железнодорожной платформе, где стоял в черной телогрейке зиминский полусирота при живых родителях, глядя с тоской на проходящие куда-то вдаль поезда.
Кроме того, на том же вокзале он изображал в видах милостыни — полного сироту, распевая что-нибудь жалостное. Успешно. В вокзальном буфете розовый, как пупс, недоросток милиционер тащил на себе опухшего инвалида, деревянная нога которого задевала стулья.
Крупнозернистая икра дроби в стеклянных банках, бабочка на гире цветастых ходиков. Это на всю жизнь.
Его уличают в раздвоенности — почти не без оснований, поскольку и детство его на первый взгляд выглядит чем-то двойным, как будто два похожих человека выросли в двух разных местах. Но многоликость, многоипостасность, многоперсонажность — свойство этой натуры, единой по сути. Он таков. Он разный. Собственно, он единолично, в самом себе, осуществил известный тезис Маяковского о поэтах хороших и разных, сведенных в одного самобытного поэта уникальной личностью и мгновенно узнаваемой интонацией. Стиль — это человек? Человек — это интонация.
Но это произойдет и станет ясно потом.
А дальнейшее детство было — такое: «Я рос в деревянной Москве — в маленьком двухэтажном домике, спрятанном в деревьях. Отапливался он дровами. Ни ванны, ни душа у нас не было, и, как большинство тогдашних москвичей, мы по субботам торжественно ходили в баню, совершая старинный обряд хлестания друг друга по бокам и спине березовыми вениками. <…> Мама, бывшая певица, потерявшая голос на фронте, бабушка, моя сестренка и я жили в двух комнатах коммунальной квартиры. В сатирических произведениях тех лет весьма ядовито описаны эти коммунальные кухни, где разъяренные соседки плюют друг другу в борщи и жильцы устраивают общественную порку тому, кто не гасит свет в туалете. Однако в нашей коммунальной квартире такого не было и в помине. Наоборот, общая кухня была чем-то вроде маленького парламента, где обсуждались все дела — и семейные, и политические, а большим залом этого парламента был весь двор, где на деревянных скамеечках в тени деревьев шли долгие заседания всех жильцов и равными в спорах были и водопроводчик, и профессор, и писатель».
В каждом городе, особенно крупном, не говоря уж о столице, обязательно есть район наиболее криминальный. Долгое время, начиная с позапозапрошлого века, Марьина Роща славилась наиболее выдающимися достижениями в этой области, и самое имя ее внушало трепет. Может быть, продуктом бандитской славы была такая версия происхождения имени: в незапамятные времена в сих дикорастущих местах лютовала страшная шайка, и возглавляла ее лихая атаманша Марья. Русские люди верят в страшные сказки, тем более что прецеденты были не только в фольклоре, но и в анналах истории, а один из прекрасных поэтов, высоко ценимых Евтушенко, Дмитрий Кедрин написал «Песню про Алену-старицу» как раз на эту тему. Это были, как правило, робингуды в юбке. «И вождь наш — женщина!», как будет сказано потом в «Женщине и море».
XX век многое забыл. В послевоенные годы повседневно царила уголовщина. Вопросы решались финским ножом.
Параллельное существование уголовного и законопослушного миров составляло даже некую гармонию: каждый знал свой жизненный участок, и понятия соблюдались неукоснительно. Миры переплетались, будучи отдельными. Каждый подросток мог попасть в сети криминала независимо от рода занятий его родителей.
«…мне было двенадцать лет. Мама — эстрадная певица — была на фронте, отец, разведенный с нею, где-то в Сибири, и я жил один в коммунальной квартире внутри деревянного ветхого домика, окруженного черемуховыми деревьями и тополями. Как и многие дети той поры, я был предоставлен самому себе. Моей нянькой была улица. Улица научила меня драться, воровать и ничего не бояться. Но одного страха улица у меня не смогла отобрать — это был страх потерять хлебные карточки. Я носил их в холщовом мешочке на ботиночном шнурке вокруг шеи. Однажды после драки этот мешочек исчез. Старуха, стоявшая в очереди, отдала мне карточки скончавшегося мужа, сказав: “Хоть за мертвого поешь…”
В сорок пятом году мне отоварили все карточки, оставленные мамой, бывшей тогда на фронте, сгущенным молоком. Был целый бидон — литров пять. Я пригласил всех дворовых мальчишек на этот пир Лукулла. Мы вылили сгущенку в таз посреди стола и начали черпать ее ложками, намазывая на хлеб, или просто хлебали. После этого я видеть не могу сгущенного молока. Все детство я провел в очередях, как и почти все дети нашего поколения, записывая порядковые номера химическим карандашом на ладони».
Когда Женю Евтушенко вышибли из одиозной (для «неисправимых») 607-й школы, ему грозил преступный жребий многих сверстников и соседей. Участь сия миновала его, а в школу эту он перелетел из другой — 254-й. Паренек был озорной, кроме того — беззаветно любил футбол и безнаказанно прогуливал уроки. Однокашники однажды ухохотались, когда бабушка Мария Иосифовна привела его в школу на веревке, как теленка. Школьное начальство терпело мелкие прегрешения, но случилось худшее.
В школу пришел инструктор из комсомольского райкома разъяснять доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Женя вооружился томом «Литературной энциклопедии» тридцатых годов и на глазах у всех предложил инструктору сличить соответствующие статьи энциклопедии и ждановской брошюрки. Оказалось — плагиат. Секретарь ЦК ВКП(б) — литературный вор?..
Женю отправили в «школу неисправимых», 607-ю. Там произошло следующее: кто-то похитил из учительской все классные журналы, сжег их, и обгоревшие остатки были найдены на свалке. Директор школы, в общем-то человек хороший, наугад выбрал виновника ЧП и наказал — его, Евтушенко, никак не виноватого, выгнав из школы и выписав ему «волчий паспорт», то есть отрицательную характеристику, с которой у человека не остается ни малейшей перспективы.
Жизнь Жени состояла из всяческих околошкольных недоразумений, дворово-уличных приключений, прогулов-прогулок по Москве и усиленного, безостановочного стихописания. На письменном столе перед собой он раскладывал школьные тетрадки — для мамы, на самом деле вдохновенно гоня строчки в рифму. «Я переставал писать стихи только тогда, когда рука уже совершенно онемевала». Выходило штук по десять-двенадцать стихотворений в день. Он тогда решил зарифмовать весь «Словарь» Ожегова и обязательно новыми, небывалыми рифмами, и пытался составить, помимо прочего, словарь рифм, которых еще не бывало, таких нашлось до 10 тысяч, — увы, он утерян.
В одном размашистом тексте он сообщил: «Моя мать рвала тетради моих стихов в мелкие клочья», поскольку она якобы страшилась традиционно трагической судьбы русского поэта, — может, так и случалось, однако в действительности Зинаида Ермолаевна до глубокой старости хранила его потайные тетрадки и листки.
Стараниями матери сбережены подростковые дневники Евтушенко с перечнем прочитанных книг, увиденных фильмов и спектаклей. Став взрослым, Евтушенко все дневниковое — сокровенное, ежедневное, сиюсекундное — вливал в стихи. Дневник как жанр отсутствует в его арсенале. Он вел записные книжки, но они — нечто функциональное, опять-таки в пользу стихов.
С давними дневниковыми записями работал Юрий Нехорошев — по евтушенковской характеристике «Евтушенковед Номер Один», и это истинная правда: нет лучшего знатока евтушенковской темы.