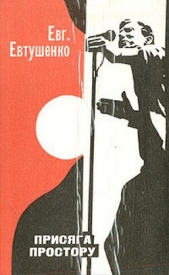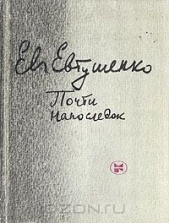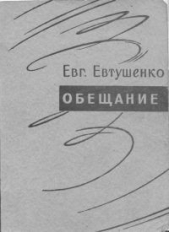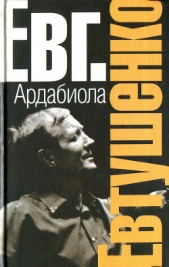Евтушенко: Love story
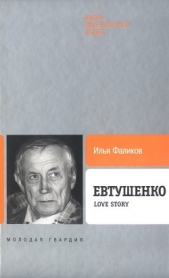
Евтушенко: Love story читать книгу онлайн
Поэт Евгений Евтушенко, завоевавший мировую известность полвека тому, равнодушием не обижен по сей день — одних восхищает, других изумляет, третьих раздражает: «Я разный — я натруженный и праздный. Я целе- и нецелесообразный…» Многие его строки вошли в поговорки («Поэт в России — больше, чем поэт», «Пришли иные времена. Взошли иные имена», «Как ни крутите, ни вертите, но существует Нефертити…» и т. д. и т. д.), многие песни на его слова считаются народными («Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую…», «Бежит река, в тумане тает…»), по многим произведениям поставлены спектакли, фильмы, да и сам он не чужд кинематографу как сценарист, актер и режиссер. Илья Фаликов, известный поэт, прозаик, эссеист, представляет на суд читателей рискованный и увлекательнейший труд, в котором пытается разгадать феномен под названием «Евтушенко». Книга эта — не юбилейный панегирик, не памфлет, не сухо изложенная биография. Это — эпический взгляд на мятежный XX век, отраженный, может быть, наиболее полно, выразительно и спорно как в творчестве, так и в самой жизни Евг. Евтушенко. Словом, перед вами, читатель, поэт как он есть — с его небывалой славой и «одиночеством, всех верностей верней», со всеми дружбами и разрывами, любовями и изменами, брачными союзами и их распадами… Биография продолжается!
Знак информационной продукции 16+
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А рос он там еще при Сталине, и на земном шаре шла страшная война. Зиминских картин у Евтушенко в стихах, не говоря о прозе, — не счесть, его Зима на редкость достоверна и подробна. Так может видеть только детский глаз, но поразительнее всего — долгосрочная памятливость его зрения.
«Амнистированный гогот», «святой Лаврентий» — точное указание на время действия: 1953 год, бериевская амнистия (1,2 миллиона человек, не представляющих угрозы для государственной безопасности), на волю выпущена тьма уголовников. Евгению двадцать — двадцать один. Все остальные детали — вплоть до бабочки на гире ходиков — из предыдущей жизни, из самого раннего детства. В некотором смысле он и сам — такая бабочка. Знак времени.
А в музыкальной ткани стиха — отдаленный призвук народно-каторжанской песни с рефреном «Бежал бродяга с Сахалина». Навзрыдные ноты его стихов имеют определенное происхождение. Острожных песен без слезы не бывает.
Поселение Зима появилось в первой половине XVIII века. На Большой Московской дороге, по которой в середине XVIII века гнали заключенных, возникла «станца» Зима. Название Зима — от бурятского «зэмэ», то есть «вина» или «проступок». Не надо приуменьшать значение таких — скрытых — вещей. Вина, проступок — постоянные, если не сказать врожденные мотивы евтушенковского творчества.
Первым жителем поселения был ямщик Никифор Матвеев. «В прошлом 1743 году по Указу Иркутской канцелярии из Братского острога он (Матвеев) приписан на Зиминский станец в ямщики для содержания подвозной гоньбы… в семигривенном окладе» (запись в «Ревизских сказках»). Первые зиминцы обзаводились хозяйством, пасли скот, выращивали зерновые. В 1772 году началась прокладка Московского гужевого тракта, а затем и устройство паромной переправы через Оку. На протяжении второй половины XVIII века и всего XIX века Зима — притрактовая деревня, большинство жителей — пашенные крестьяне. В 1891 году пошло сооружение Транссибирской железной дороги, в 1898 году образовалась железнодорожная станция Зима, где со временем были построены локомотивное депо, железнодорожные мастерские, жилой поселок.
Вокруг были глина да песок, месторождения поваренной соли. Во время Столыпинских реформ — 1906–1913 годы — в Зиму и ее окрестности прикатила волна переселенцев, завязалась торговля хлебом и лесом. Жили тут вольные крестьяне, ссыльные и заключенные, строившие железную дорогу. Было много лесопилен. Неподалеку располагались Хулгунуйская заимка и деревня Ухтуй. В тридцатых-сороковых годах, когда там произрастал Евтушенко, зиминцев было около тридцати тысяч. Мясокомбинат, маслозавод, хлебозавод, «Заготзерно» — все было как положено, и кое-что из этих учреждений и названий попало в его стихи.
Родители Жени здесь оказались не случайно: Зинаида Ермолаевна — уроженка сих мест. Летом 1932-го студентка 4-го курса Московского геологоразведочного института Зинаида Евтушенко, работавшая в экспедициях в бассейне Ангары, приехала к своей матери, Марии Иосифовне, проживавшей тогда в Нижнеудинске, и родила первенца. Вскоре Зинаида с ребенком перебралась в Зиму, в дом родни — Дубининых. Муж вернулся из экспедиции, забрал жену с младенцем и привез в московский дом своего отца на Четвертой Мещанской улице.
Еще учась на последнем курсе, она выиграла на конкурсе самодеятельного творчества столичных вузов первую премию и поступила в музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова, в 1939-м окончила его, уже работая солисткой Московского театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, с 1938 по 1941 год. Грянула война, с начала которой по декабрь 1943-го Зинаида Евтушенко выступает на фронтах в составе концертных бригад, которые состояли из артистов и писателей, — бывало, что и вместе с литературными знаменитостями: Симоновым, Фадеевым, Алигер.
Удалось выехать на гастроли в тыл, в Читинскую область, ей дружно аплодировали хлеборобы, пока она не слегла с тифом на несколько месяцев в читинской больнице. По выздоровлении, поначалу с обритой головой, — заведование зиминским Домом культуры железнодорожников, где начинала в детском секторе — с трудными подростками. Но характера ей было не занимать стать, она была дочерью своей непреклонной матери, ее прямоту Женя познал вполне с течением жизни.
В июле 1944-го с сыном вернулась в Москву. Вызвав в столицу свою мать, опять — на фронт, с поездками в концертной бригаде своего театра, почти до самой победы, до апреля сорок пятого. Голос был потерян, сын обретен. И не только сын: через 3 месяца у Жени появилась единоутробная сестра Елена, по-домашнему — Лёля. Которая станет актрисой, чтицей стихов — все правильно: это — фамильное.
Никто не гнал Зинаиду Ермолаевну на фронт с концертами. Как скажет потом сестра Лёля, Женя — в мать: перпетуум-мобиле.
Человек устроен сложно. По природе Женя был мамин сын и от матери был неотрывен до конца ее долгой жизни, однако где-то глубоко внутри оставался кусочек вакуумной паузы в их отношениях военной поры. Мать Василия Аксенова Евгения Гинзбург через много лет добродушно говорила:
— Женю я очень люблю. Он такой большой ребенок. Искренний до наивности. Передо мной вдруг упал на колени: «Я хочу, чтобы вы были моей мамой, считайте меня сыном». Ну, совершеннейший мальчишка.
Он и к Африке потом обратится: «О мама черная моя!»
Ему лишь слегка понадобился его артистический дар, когда он спервоначалу лепил образ автогероя — сибирского мальчишки, выросшего в тайге. Так оно и было. Он прекрасно знал «родной сибирский говорок» с этими «чо» вместо «что» и множеством пряных словечек, бытующих только в родных местах. Жил в семье дяди Андрея Ивановича Дубинина, учился у Сусанны Иосифовны Коношенко. Детство было как детство, с проделками и неприятностями (однажды шайка шпаны ограбила его в центре Зимы), он носился по Телефонной улице, стоял в нудных очередях за хлебом, выступал в госпиталях перед ранеными с песнями и стихами, трудился на овощных базах и в полях; в клубе он смотрел кино, где пел Марк Бернес про темную ночь и детскую кроватку точно так же, как потом — о том, хотят ли русские войны, но отсутствие родителей компенсировалось вольностями ненавязчивого воспитания и роскошью природы, заглушая тоску по родителям.
Он везде выглядел иначе, по-другому, не таким, как все, в силу хотя бы своего буратинистого носа и ранней долговязости. Конечно же в Зиме — по крайней мере поначалу — он был столичной штучкой, бравировал тем, что уже глаза в глаза видел войну: пацан, приехавший в Зиму из Москвы, хвастался перед новыми дружками тем, как он дежурил ночами на крыше и самолично тушил зажигательные бомбы.
В другом тысячелетии, уже в американской Талсе, он почти нечаянно обронил («Мелодия Лары», 2002):
«Я еще в детстве видел американцев, летчиков. На нашей станции Зима был малюсенький аэродром. И я никогда не забуду одну женщину, американку с длинным носом, которая целовалась с русским штурманом прямо на дороге. Там был перевалочный пункт “Дугласов”, летавших с Аляски. Ну а мы, дети, конечно, подсматривали.
И вот когда я приехал в Штаты, меня спросили: кто был первый американец, которого я видел. Я поправил, что это была американка, и рассказал о том поцелуе. И тогда сидевшая рядом знаменитая писательница, автор великой пьесы “Лисички” Лиллиан Хелман, расплакалась и сказала: “Это была я!”».
В 1944-м, став окончательно столичным горожанином, одной ногой он был еще в таежной чаще, другой — в Марьиной Роще, тоже по существу месте поселковом, переходном, как его возраст. Он шатался в толкучке столичной, как провинциальный пацан с вокзала, с незримым огромным чемоданом, набитым колоссальными впечатлениями детства.