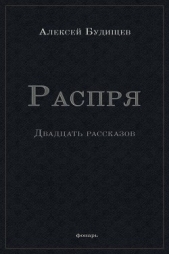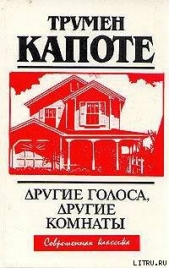Распря с веком. В два голоса
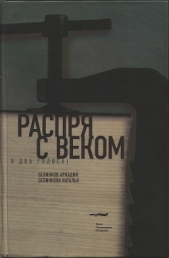
Распря с веком. В два голоса читать книгу онлайн
«Распря с веком» — свидетельство двух человек о творческой жизни писателя Аркадия Белинкова (1921–1970) в советской России и за рубежом. О поворотах в его судьбе: аресте, эмиграции, ранней смерти.
Фрагментами своих опубликованных и неопубликованных книг, письмами и черновиками Аркадий Белинков сам повествует о времени, жертвой и судьей которого он был.
Наталья Белинкова, прибегая к архивным документам и своим воспоминаниям, рассказывает о самоотверженной борьбе писателя за публикацию своих произведений и о его сложных взаимоотношениях с выдающимися людьми нашего недавнего прошлого: Анной Ахматовой, Корнеем Чуковским, Виктором Шкловским и другими.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С теплом в Москве грохот и шум распускаются и цветут, цепляясь за шероховатости карнизов окон и бульварных решеток.
Первым созревает горохообразное дребезжание трамваев. Потом появляются тяжелые, как фрукты, немного влажные голоса автомобилей. Потом шарканье прохожих. Птиц нет вовсе. Дожди в Москве бесшумны. Они висят в воздухе. Падать им некуда.
Мы опять собирались на юг. Там легче оторваться от однообразной зимней усталости и нужно заново привыкать к воздуху, людям, домам и деревьям. Неожиданность успокаивает, как редкие выпадения из строгого и утомительного ритма.
Марианна уезжала в деревню.
С утра хлопотали с вещами, которых, конечно, оказалось непомерно много, и с книгами, которые тоже всегда неожиданно становятся тяжелыми. Все это нужно было приводить в порядок, складывать, увязывать и отправлять на вокзал. У Марианны болела голова. Мне была тягостна собственная беспомощность, и я дурно чувствовал себя среди этих беспорядочно валяющихся по столам, креслам, стульям и просто на полу вещей. Я натыкался на них и всем надоел.
Евгения Иоаникиевна на меня дулась, уверенная в том, что я уговаривал Марианну не ездить в деревню. Ничего подобного я не делал. Я только прочел Марианне «Когда волнуется желтеющая нива…». И купил ей удочку.
Дождь штопал окна. Потом началась гроза. Поле стало серым и маленьким. Ветер охапками бросал дождь из стороны в сторону. Лес рванулся в поле. На мгновение он замер, не понимая своей неподвижности, потом вспомнил, вздыхал и переминался с ноги на ногу. Гроза шла за рекой и вместе с нею. Обе были торопливы, и река часто кашляла. Было много молний. Они скрещивались, и это очень походило на рисунок, предупреждающий об очень высоком напряжении.
Я сказал Марианне об этом и еще о том, что все-таки грома мы боимся больше, чем молнии.
Марианна утвердительно кивнула головой, но я знал, что сейчас ей это неинтересно. Она глядела в окно на автомобили, которые как-то удивительно лавировали среди ниточек дождя, умудряясь оставаться сухими.
Уехали они в дождь.
Гроза прошла, и дождь повис над узким перроном, как скошенный гребень.
Поезд был уставшим и потным. Был июнь. Было тепло. И в вечере висел дождь, натянутый между фонарными столбами.
Письмо с эпиграфом. Раскаленный воздух по вечерам над ресторанами. Болезнь. Проект письма. Одиннадцатая заповедь Евгении Иоаникиевны. О любви, простуженной на холоде. О дочери и о неуловимом. О вновь завывших химерах Собора Богоматери.
В Руане светало. Ветер смахнул дождь. Хлопьями падал туман. Совсем рядом плавало сочное море. Потом вспыхнуло гладкое солнце. И растаяло на голых головах булыжников.
Это был предутренний час, когда великий писатель кончил последнюю фразу «Сентиментального воспитания» и, откинувшись на спинку кресла, тихо, как цитату из своего романа, сказал:
— Всегда пишешь не те книги, какие хочешь.
Даже не читаешь, какие хочешь. Все делаешь не так, как хочешь. Флобер хотел быть просто эстетом, но в 30–40-х годах нынешнего века он оказался разрушителем и реалистом, а его друга Д’Орвильи [18] начинают забывать. Вероятно, Марианна тоже стала бы разрушительницей, но я был слишком нетерпелив и злоупотреблял радостью Пигмалиона.
Метаморфозы
Эта часть романа начинается именно так: «Это было в тягостные июньские дни девятьсот сорок первого лета, в пору превращения дождей из белых туманов и опрометчивых колебаний термометра; в пору, когда Симонов, Алигер и Долматовский становились такими же древнерусскими безнадежностями, как праздная попытка переписать заново стихи поэтов допушкинской эпохи; в то тягостное время, когда уставшие школьницы и студенты сдают последние экзамены, уже утратив сладость предвкушения грядущего бездельного лета, в пору тягостной диктатуры пролетариата…»
Ночью я писал Марианне. Это было новое, до этих пор почти незнакомое ощущение. Потому что это письмо было одним из очень немногих писем, которые я когда-либо писал Марианне. До этого мне некуда было писать. Я задумал целую серию. На конверте я нарисовал маленькую единицу.
Мне было очень тяжело. Я впервые расставался с Марианной. Еще недавно я не знал ее вовсе. Теперь Марианна уехала. По-моему, это преждевременно. Кроме того, сама, добровольно уехала. Как будто даже отдыхать.
Письмо получалось громоздкое и сложное, как пьеса к концу четвертого акта.
Эпиграф был такой:
Эпиграфа я испугался. Но оставил. Письма не выходило. Тогда я подумал и решил переделать его в пародию на европейскую литературу, и главным образом на шлегелевскую «Люцинду», плохо понимая, зачем мне это нужно.
Шел дождь. Наверное бы пошел снег, если бы это не был конец июня. Было холодно. Было темно. И был ветер. Я надвинул шляпу на лоб. По блестящей полированной поверхности макинтоша текли лужи. В них отражались автомобильные фары. Плащ был кинематографичен и блестящ, как великосветское общество с шампанским.
Но письма не выходило.
Про кинематографический плащ, похожий на сервировку великосветского ужина, вполне можно было написать в письме.
Но я не писал.
Я вернулся домой и долго курил. Потом читал Селина. Потом лег. Были сны. Потом я заснул. Сны были многоверстные, громоздкие, огромные и похожие на шкаф, который выносят из пустой квартиры. Толкаясь, они толпились под одеялом и мешали спать, чужие, как прохожие, похожие друг на друга. В одном был какой-то сложный сюжет. Какой, я забыл. Потом снились рифмы. Забыл — какие.
Утро было удивительно похожее на вечер. На тот, который я видел накануне. Серый узкий дождь сушился, свешиваясь между фонарными столбами, и за ним был покрасневший, набухший фонарь. Если бы я сам не видел ночи, можно было бы подумать, что ее вовсе не было. Но это неправда. Она была. Я не мог написать письма. Это совершенно ясно. Это оно лежит, со вставками и вычеркнутыми строками, поломанное и скомканное, как сияющий плащ или как остатки великосветского ужина.
Тверская растворялась в тумане, как мазок акварелью по влажной бумаге. В конце улицы, прямо на дороге, все время пересекаемой автомобилями, лежало тихое зеленоватое облако. Автомобили подпрыгивали и зарывались в круглые бугорки тумана. Где-то, кромсая, рванулись и взвизгнули сразу несколько трамваев и молодая женщина. Повесился мужчина в возрасте 27 лет.
Толстая, черная машина вдруг кругло затормозила и упруго припала к асфальту.
Репродукторы расстреливали автомобили.
Гравий из репродукторов легко пробивал воздух и забивался в рот и за ворот.
Автомобили неожиданно круто тормозили и удивленно приседали на задние колеса.
Глубокие горсти репродукторов слегка пошатывало. Слова и еще не отлетевшее от них дыхание просыпались во все стороны. Они сыпались на крыши и на тротуар. Некоторые закатывались под ноги, под дома и автомобили и — пропадали.
Потом вдруг зажегся фонарь. Несколько секунд бессмысленно погорел, потом мигнул и поспешно погас.
Дома покачивало. Сорвалась какая-то рама и билась об стену, звонко вырываясь из рук испуганной девушки.
Тверская громоздилась говором.
Откуда-то появлялись новые люди, и автомобили становились выпуклыми и круглыми, этим выдавая свою довоенную некомпетентность.
Говор большими кульками с крупной крупой переходил из рук в руки. В него заглядывали, переспрашивали, с тем чтобы тотчас же, забывая опять и сбиваясь в тщетных высчитываниях, угадать название, количество или время.
Выпорхнуло, помахивая, похожее на тень уже позабытого, непривычного слова. Оно оказалось солоноватым на вкус и было похоже на шепот. И на летучую мышь.