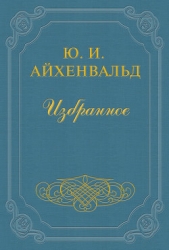Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей
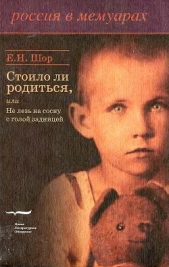
Стоило ли родиться, или Не лезь на сосну с голой задницей читать книгу онлайн
Взросление ребенка и московский интеллигентский быт конца 1920-х — первой половины 1940-х годов, увиденный детскими и юношескими глазами: семья, коммунальная квартира, дачи, школа, война, Елисеевский магазин и борьба с клопами, фанатки Лемешева и карточки на продукты.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Уланова делала то, что почти никто не делал и не делает, — превращала театр в нечто выше театра. Таково было воздействие ее артистической личности. Она могла бы не танцевать, хотя она превосходно, поэтично танцевала Жизель, и никого, кроме нее, нельзя было тогда представить себе в этой партии. Я смотрела «Жизель» множество раз, видела Уланову по нескольку раз в других балетах, восхищалась ею, но не стала поклонницей Улановой. Почему? Уланова воспевала грусть, а мне хотелось, чтобы была выражена радость жизни, что соответствовало бы моему оптимизму, подтверждало мою возможную победу в будущем. Еще: я, без всяких теорий, скучала на драмбалетах [210], даже на лучших из них — «Ромео и Джульетте», «Бахчисарайском фонтане», — как бы ни были хороши спектакли, а они были действительно хороши (спектакли — не балеты), и как бы прекрасны ни были исполнители, а они были прекрасны.
«Спящая красавица» [211] не вызвала во мне потрясения, но я ее полюбила не меньше, чем «Жизель». И музыка, и хореография (я тогда не употребляла это слово) — все дышало в ней возможностью счастья, торжеством не столько добра над злом, сколько счастья над несчастьем. Особенно музыка панорамы казалась мне дорогой к счастью. В панораме на сцене были лиственные деревья с толстыми стволами, деревья французского пейзажа (и дубы моего раннего детства на даче в Хорошеве?), и мне ничуть не мешало, что они двигались с громким фанерным треском. Я не обращаю внимания на декорации в балете (наверно, больше ста раз смотрела «Лебединое озеро» в Большом театре, пока не заметила, что аплодисменты зала в последнем акте вызывает крушение замка — я его не видела), но в той «Спящей красавице», совершенно не думая о том, что это работа какого-то художника (много лет спустя я узнала его имя: Исаак Рабинович [212]), восхищалась также декорациями и костюмами. В год рождения Авроры — героини балета — женщины носили средневековые платья и головные уборы (hennin) в виде длинных и узких конусов — конечно, в такие далекие времена вполне могли произойти сказочные события. Правда, на углу невысокой террасы, с которой по нескольким ступенькам спускалась в день своего шестнадцатилетия Аврора, на балюстраде стояла прелестная корзина с цветами — ее я увидела потом в Люксембургском саду, — хотя это противоречило средневековому прологу, но как шло к выходу Авроры в розовой пачке и к танцам этого действия.
Особый мир «Спящей красавицы» из сочетания танцев и располагающей к мечтам о счастье музыки, вечный мир счастья, куда хочется уйти, где все, даже несчастье, оборачивается счастьем. Наверно, именно в «Спящей красавице» я если и не поняла, то почувствовала, что такое классический танец. До этого для меня существовала выразительность помимо, сверх танца (Уланова — образ чистоты, печали, отсутствия зла и пошлости), и танец для красоты, красивый танец («Сон Дон Кихота», «Остров нереид»). А тут я ощутила, что танец, как музыка, выражает то, что нельзя сказать иначе (я потом поняла, что классический танец, как и музыка, — мир не материальной жизни, а души, но выражаемый движениями тела — самого материального инструмента). Пожалуй, я поняла, что такое классический танец, глядя на Семенову. Уланова старалась, чтобы танец был незаметен. «Жизель» еще потому мне полюбилась, что там, особенно во втором акте, она танцевала без того стеснения, которое было у нее в других балетах [213]. Семенова удивила меня сначала в «Лебедином озере», как будто было в ее движениях много лишнего по сравнению с Лепешинской, нужно ли это? Но меня сразу покорила диагональ глиссад, так хорошо выражающих злое веселье победившей Одиллии. И так получилось, отчасти благодаря Люке, что я стала ходить почти на каждый спектакль с Семеновой. Мне нравился ее танец, но я скрывала от других и отчасти от себя, что мне гораздо меньше нравилась она сама, то властное и злое, что было в ее облике (и что подтверждалось сведениями об отсутствии доброты в жизни). Мне не нравилась ее чрезмерная телесность, скульптурной красоте ее тела я предпочитала современную красоту пропорций, длинные ноги и легкость. Я училась отделять искусство от личности исполнителя, но отделимы ли они?
Лемешев долго разводился с Варзер, чтобы жениться на ненавидимой мною разлучнице Масленниковой. Я много раз видела и слышала Лемешева и Масленникову в разных операх. (Лемешевские поклонницы, ненавидевшие «Сару», почему-то еще больше возненавидели Масленникову и во время спектаклей кидали на сцену звеневшие монетки.) Я все «подходила» к Варзер, провожала ее из театра, чаще вместе с другими поклонницами. Я стала ей противоречить в наших пустячных разговорах. Мне становилось ясно, что Варзер, как я записала в дневнике, «пошлая женщина», отчего происходит ее актерская бездарность и — я это скорее чувствовала — наше с ней взаимное непонимание. Я не знала еще, что возможность такого определения — симптом конца любви, романтической, во всяком случае. Вместе с разводом Лемешева кончилась, угасла моя любовь к обоим. Я перестала ходить в Художественный театр и провожать Варзер, и хотя Лемешев продолжал петь, я, незаметно для себя, без всяких решений, перестала ходить на его спектакли, а в Большой (и в филиал) продолжала ходить, только не в оперу, а на балеты. Большой театр, его балет, как и университет (не меньше, чем университет), стал моей alma mater.
Когда Лемешев развелся с Варзер, ее отселили в маленькую квартиру, и через несколько лет она заболела раком и умерла. Я об этом узнала не сразу и не почувствовала никакого горя, это даже показалось возмездием за мои страдания и обиды. Но я была рада, что Варзер жила одна и заболела и умерла — это было для меня доказательством ее любви к Лемешеву, реализацией половины моего мифа об их любви, подтверждением существования любви.
Увлечение Яном Кипурой [214], десятки раз виденный его фильм мне кажутся унизительно смешными от беспочвенности. Что я нашла в нем? Ян Кипура был польский тенор (тенор = итальянщина), переселившийся в Америку. Власть голоса? Но и голос-то не из самых лучших, как и внешность: маленький, с объемистой грудной клеткой, с короткими ногами, широколицый и скуластый, с маленькими глазками. Я поджариваюсь, как на сковородке, от стыда за мое убожество. Не утешение, что не я одна, что таких много.
Однако я знала себе цену: преклонялась, но не уничтожалась.
Петух, найдя еду и созывая своих кур, квохчет, как наседка. Но иногда это обманный маневр: он якобы нашел зерно, а на самом деле ему нужна курица, он ее заманивает. Но это не «переключение». «Переключение» — это действие того же петуха, когда во время драки с другим петухом он вдруг начинает клевать на земле воображаемые зерна. Ему не хочется драться, и он мечтает о спокойной жизни? Как знать? У меня тоже было переключение. Я и тогда понимала, что, если бы меня любили, если бы была любима, я бы меньше страдала от голода и холода. Чем заменить любовь? У меня совсем кончились деньги перед вторым поступлением в университет. И на последние рубли, по бешеной цене я купила в коммерческом магазине виноград «дамские пальчики», от нежной сладости которого мне в детстве хотелось плакать. Я купила виноград от тоски. Еда вместо любви? Не только переключение. Попытка возвращения в теплый мир, где я была любима, вкусом этого сладчайшего, с тонкой кожицей винограда, каждую ягоду которого я раскусывала пополам (ах, Пруст с его сладким пирогом). Возвращение в мир, который я потеряла вместе с мамой и со старением Марии Федоровны, с моим непослушанием в желании свободы… Голод по любви ко мне я пыталась удовлетворить, как голод желудка.