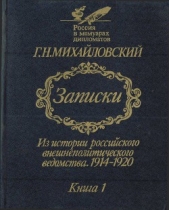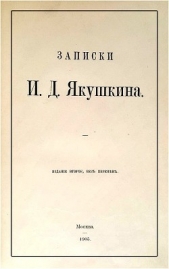Записки русского изгнанника

Записки русского изгнанника читать книгу онлайн
Превосходным образцом мемуарной литературы можно считать книгу доблестного генерала царской армии И. Т. Беляева (1875–1957). Один из лучших представителей русского дворянства, классический монархист, силой обстоятельств ставший участником Белого движения, размышляет о перипетиях Первой мировой войны и Гражданской. Беззаветно любя Россию, генерал оказался в изгнании, вдали от Родины. В Парагвае он организует русскую колонию и становится не просто лидером общины, выдающимся этнографом, а ещё и борцом за права индейцев в Латинской Америке, национальным героем Парагвая.
«Записки» генерала Беляева должны вызвать большой интерес у историков, этнографов и всех людей, кому дорого русское культурное наследие.
На обложке: портрет автора в форме генерал-майора парагвайской армии И. Т. Беляева и герб дворянского рода Беляевых.
В.П. Голубев — издатель, редактор.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из всей семьи Изразцовых самым симпатичным оказался сын его, Сергей.
Крошка потребовала, чтоб я прошел курс испанского языка в школе Берлица, а С.К.Изразцов познакомил меня с бывшим русским консулом, который помог мне перевести приготовленную мной статью о русской революции. Он оказался неплохим человеком, стал приглашать нас с Алей к обеду.
— По пятницам я угощаю заезжих артистов и артисток, потом мы играем в четыре руки, иногда они поют. Прочих русских я не хочу знать, пусть идут к Штейну. А я даже не русский, моя мать немка!..
Чудак даже расписывался «фон Пташник». Через несколько месяцев к нему приехал бывший офицер Конно-горного дивизиона штабс-капитан Пташников — и смех и грех!
В школе Берлица я прошел курс с потрясающей быстротой. В сущности, я уже имел хорошее понятие о языке, но это упорядочило и дисциплинировало мои познания. Аля приходила за мной и познакомилась там с симпатичной дамой, сеньорой Роблес де Амар, и с ее дочуркой, девочкой лет 15, черноглазой, с огромными иссиня-черными «rulo» по обе стороны личика.
— Ваш муж, наверное, хорошо знает языки, — говорила сеньора Але. — Моя дочка толчется здесь на месте с бесталанными ученицами. Может быть, он взялся бы преподавать ей на дому?
Я согласился с удовольствием. Благодаря Эверлингу я знал немецкую грамматику назубок, достал Берлица, и мы с Дельфиной делали чудеса. Я поражался ее понятливости и памяти. Через два месяца я достал ей подходящие по содержанию книжки — «Die Waffen nieder», знаменитое произведение Берты Зутнер и др. Она рекомендовала мне подругу — сеньориту Киллиан, дочь немца и аргентинки, но эта милая барышня, застенчивая до невероятности, двигалась с трудом, боялась даже склеить фразу.
Зная язык теоретически, я совершенно не имел разговорной практики: закончив курс, я рекомендовал Дельфине молоденького князя Ливена, который кончил всего четыре класса гимназии, но родился и воспитывался в немецкой аристократической семье. Через два месяца, уже в Парагвае, я получил от нее милое письмо, полное самой горячей признательности.
Она писала, что получила из рук германского посла золотую медаль, как лучшая по немецкому языку. Позднее она получила такую же за английский язык. Вообще, она была удивительно талантливой девочкой. Она дивно играла на арфе, за которую уже раньше имела золотую медаль. В доме, где они жили, они устроили нам комнатку, и мы каждый вечер имели счастье слушать ее чудесную игру.
Однажды, вернувшись из центра, я нашел у себя на постели визитную карточку.
«Дорогой генерал, — писал мне мой случайный знакомый, адвокат Хименес, — мой друг, доктор Фонтана, хорват по происхождению, принял в вас горячее участие. Зайдите к нему (адрес прилагаю)».
Доктор Фонтана — плотный, цветущий старик с ясными, светлыми глазами и окладистой белой бородой, принял меня с распростертыми объятиями.
У него было небольшое заведение, где провалившиеся на экзаменах ученики спешно готовились к переэкзаменовкам. Он предложил мне французский язык. В нем я был слабее, чем в немецком, но начальные курсы не представляли затруднений, а 150 песо в месяц для меня были деньги. Наблюдая за моей работой, добрый старик пришел в восторг.
— Я никогда не думал, — говорил он, — чтоб природный вояка мог с таким терпением и добротой справляться с разнузданной детворой.
Он предложил мне немецкий, и на следующий месяц я уже стал получать 250.
— В конце месяца я передам вам моего сына и дочь, и вы будете получать 400, - говорил он, потирая руки.
Но у меня были другие перспективы.
При первой возможности я разыскал Парагвайское посольство. Там меня приняли сухо. Сказали, что в стране революция и что надо ждать приезда военного агента. Мои попытки устроиться в других странах не сулили ничего хорошего. Но вот в газетах появилось сведение об окончании смуты в Парагвае и о приезде бывшего президента Гондры и военного агента Санчеса. Оба приняли меня с распростертыми объятиями. Гондра горячо приветствовал мое желание открыть русским возможность устроиться в его стране, а Санчес посулил мне un brilliante parvenir.
Однако оба прибавили, что страна обнищала и что на крупное вознаграждение рассчитывать не приходится. Я стал готовиться к отъезду. В Аргентине на Парагвай смотрели пессимистически.
— Куда вы? В Парагвай? Охотиться на обезьянок? — спрашивал Изразцов. — Посмотрите, что мне пишет оттуда бывший артиллерист, полковник Щекин: «Сейчас русских здесь никого нет. Были один или два инженера проездом, ничего не нашли и уехали. А те молодые, которые гостили у вас, тотчас же после революции откочевали в Бразилию… Я перебиваюсь как corredor (посредник по мелкой торговле)».
— Но здесь мне нечего делать. Здесь я не вижу никаких перспектив для обездоленных русских, а там нам будут рады.
— Я вам найду квартирку в 4–5 комнат, вы там можете организовать прием приезжающих.
— Спасибо. Я уже получил вызов. Сперва поеду сам, а если возможно, тотчас вызову Александру Александровну.
Брат прислал мне на дорогу 100 фунтов, а Хизыр и Юсуф вернули долг за проезд. Я сердечно распрощался с моими аргентинскими друзьями и отправился на пароход, отходивший вверх по реке.
Парагвайский сфинкс
«Дозволено ль и мне сказать четыре слова»,
— собака тут свой голос подает…
Крылов.
Едва ли не с первого дня моего прибытия (8 марта 1924 г.) на меня обрушилась целая буря самых яростных нападений со всех сторон.
Не щадили меня ни левые («ПМ»), ни правые («Вера и верность»). Обвинения сыпались даже от бывших моих соратников — белых, в том, что я совращаю верных им чинов, и со стороны врагов русской национальности, проклинавших Парагвай. Ожесточеннее всех набрасывались устроенные мною здесь, наполнявшие газеты и воздух воплями и распространявшие по моему адресу самые противоречивые нелепости.
Причиной всему было мое искреннее обращение ко всем русским за границей, в котором, предвидя ожидающий их кровавый кошмар, я указывал путь к спасению в Новом Свете, единственной стране, которая желала русской эмиграции и выразила это в конкретной форме, разрешив мне выписать на казенные места русских в Парагвай.
Всю эту бурю я выносил со стоицизмом русского солдата, с самообладанием краснокожего у столба пыток и продолжал кормить, поить и устраивать тех самых людей, которые, едва став на ноги, спешили расплатиться со мною потоками грязи и струями самой ядовитой клеветы. Где бы я ни устроил своего, там уже мне не было доступа. Но так я поступал всегда, так поступаю и по сей день.
Были причины, побуждавшие меня к молчанию. Я не мог разоблачать тех, кого только что сам вывел в люди, ручаясь за их высокие качества, а ручался я за всякого, кто приходил ко мне с именем России на устах.
… Патриотизм. Это означало для меня, что я люблю свою родину, что я не должен мириться ни с чем, пока не увижу ее возрождения. Среди стаи орлов и я почувствовал себя орлом. Как никогда мне стало ясно, что и здесь я должен сделать все, чтобы сохранить искру живого пламени русского патриотизма до того момента, когда исполнится полнота времен и за тяжелым наказанием наше Отечество засияет вновь славой возрождения.
С первых же дней я послал в издававшееся в Белграде «Новое время» горячий призыв ко всем, кто исстрадался душой за себя и своих на чужбине и мечтает вновь начать жить в стране, где он может оставаться русским, где он может найти себе существование, создать прочный очаг, сохранить детей от гибели и растления. В этих условиях, где ни истрепанная одежда, ни измученное лицо не лишают права на общее уважение, где люди знают на опыте, что Феникс возрождается из пепла, где еще никто не умер с голоду, они могли бы сохранить своих ларов и пенатов. На мой зов отозвались тысячи… Слезы сыпались градом, когда читал их письма… Но…
Страна, только что вышедшая из двухлетней распри, была обессилена. Общий уклад жизни напоминал Россию до 1900 года. Та же патриархальность, радушие к иностранцам, жизнь без претензий на европейские достижения, но полная своеобразных прелестей и вполне сочная; достаточно сказать, что все необходимое — мясо, хлеб, молоко — стоило 5 песо, при стоимости трамвайного билета — 7–8, газеты — 2 песо. На вымощенных камнем улицах стояло всего три такси, прочие обслуживали президента и военного министра, но город утопал в садах, базар был завален фруктами, маниокой и пататой, на всех улицах сияли улыбки, и на главной улице Пальмас безногие нищие играли в орел и решку.