Московские тюрьмы
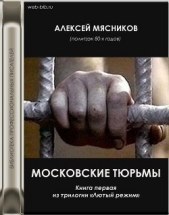
Московские тюрьмы читать книгу онлайн
Обыск, арест, тюрьма — такова была участь многих инакомыслящих вплоть до недавнего времени. Одни шли на спецзоны, в политлагеря, других заталкивали в камеры с уголовниками «на перевоспитание». Кто кого воспитывал — интересный вопрос, но вполне очевидно, что свершившаяся на наших глазах революция была подготовлена и выстрадана диссидентами. Кто они? За что их сажали? Как складывалась их судьба? Об этом на собственном опыте размышляет и рассказывает автор, социолог, журналист, кандидат философских наук — политзэк 80-х годов.
Помните, распевали «московских окон негасимый свет»? В камере свет не гаснет никогда. Это позволило автору многое увидеть и испытать из того, что сокрыто за тюремными стенами. И у читателя за страницами книги появляется редкая возможность войти в тот потаенный мир: посидеть в знаменитой тюрьме КГБ в Лефортово, пообщаться с надзирателями и уголовниками Матросской тишины и пересылки на Красной Пресне. Вместе с автором вы переживете всю прелесть нашего правосудия, а затем этап — в лагеря. Дай бог, чтобы это никогда и ни с кем больше не случилось, чтобы никто не страдал за свои убеждения, но пока не изжит произвол, пока существуют позорные тюрьмы — мы не вправе об этом не помнить.
Книга написана в 1985 году. Вскоре после освобождения. В ссыльных лесах, тайком, под «колпаком» (негласным надзором). И только сейчас появилась реальная надежда на публикацию. Ее объем около 20 п. л. Это первая книга из задуманной трилогии «Лютый режим». Далее пойдет речь о лагере, о «вольных» скитаниях изгоя — по сегодняшний день. Автор не обманет ожиданий читателя. Если, конечно, Москва-река не повернет свои воды вспять…
Есть четыре режима существования:
общий, усиленный, строгий, особый.
Общий обычно называют лютым.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Несколько дней назад, как раз накануне разборки, появился у нас Володя. Спартак еще ему замечание сделал: «Почему не здороваешься?» Но Володе было наплевать. Косая сажень в плечах, морда шлакоблоком. Уверенно прошел через всю камеру, занял место на верхних нарах у окна. Обедать сел, никого не спросясь, прямо за стол. Есть ли за столом свободное место, как отнесется тот, чье место он занял — это его не смущало. Он вел себя так не потому, что был здоровее всех нас, находят и на таких управу, а потому, что поступил сюда с зоны. Значит на голову выше, знает, чего мы не знаем. Был он стрижен, светлый волос немного подрос, серая зоновская роба на нем. За что его сюда? К добру ли, к худу? Никто не знал. Он был немногословен. Говорил мало, но категорично, четко и исключительно на жаргоне, точно никакого другого языка для него не существовало. Поневоле с ним приходилось ученически лепетать на жаргоне, нормальные слова застревали, казались невыразительными, пресными, детскими. Однако жаргон — острый язык, обращаться с ним надо уметь. Иные выражения, как нож, — можно порезаться. Возникали недоразумения. Я написал срочную записку, хочу вызвать «коня». Володя пишет свою записку, «тормози чуток». Я «торможу», он пишет, время идет. «Скоро?» — спрашиваю. «Подожди минут десять». За это время «коня» бы снова пригнали. Ладно, жду. Десять минут давно минули, у него конца не видно, мне бы по-русски сказать, мол, не могу больше ждать, а я ему: «Ты за свои слова отвечаешь?». Он оторопел, смотрит с верхних нар, будто удивляется: откуда такой голос прорезался? Рассердился: «Ты на слове меня не лови, я тебя так подловлю — тошно станет».
Дело в том, что на жаргоне выражение «за слова отвечаешь?» содержит угрозу. Скажешь «не отвечаю», значит, слово твое ничего не стоит, значит, ты непутевый. Скажешь «отвечаю», а выяснится, что не сдержал, — будут бить. Именно так и воспринял Володя, хотя я употребил это выражение полушутя, как жаргонный штамп, бытующий в нашей бесшабашной камере.
Однако бессмысленное ожидание тоже надоело. Вся камера ждет, пока Володя напишет. Я постучал по трубе и отправили «коня» без Володиной записки. Он не успел ее написать даже к следующей почте. Тем не менее, затаил ко мне неприязнь. Оснований для вражды не было, я сказал тогда резковато, но правильно, и все же симпатий друг к другу не испытывали.
Внешне это было равнодушное, нагловатое животное. За столом норовил кусок взять потолще, намазать побольше. Ни во что не вмешивался, жил для себя, считал себя знатоком зэковских правил — чего можно, чего нельзя — к нему обращались иногда за разъяснением, но делал он это неохотно, лишь бы отстали. Со Спартаком они почти не общались. Это было странно: два маститых «вора» как бы не замечают друг друга. Я надеялся, что присутствие Володи дисциплинирует Спартака. Ничего подобного. Именно с появлением Володи Спартак начал открыто травить меня. Володя никак не реагировал. Во время разборки он молча сидел за столом. Я спросил: насколько справедливы обвинения Спартака с его точки зрения? Он пробурчал, что это зависит от того, как я буду отвечать, потом сказал, что не видит в обстоятельствах моего ухода из 124-й и курении общаковского табака нарушения зэковских правил, но добавил, что при желании можно повернуть и так, и этак. Это он сказал лично мне, а не собранию, и на кары, назначенные Спартаком, не возразил. «Ваше дело, меня не касается», — делал вид. Между тем, это он лег на мое «воровское» место. Есть вещи, которые путевый зэк обязан рассудить. Оба они со Спартаком утверждают, что путевый зэк не допустит беспредела и обязан навести порядок в хате. Ко мне претензии именно от того, что я не сделал этого в 124-й, а ушел. А что происходит сейчас? Спартак же явно беспредельничает. Оскорбления и оплеухи слабым и безответным, пародия на сходняк, наскоки за мнимые прегрешения, наконец, очевидный произвол с запретом сидеть за столом и драка — разве это не беспредел? А Володя лежит на боку, на бывшем моем месте у батареи и делает вид, что ничего не видит, не слышит. Как-то «непутево» получается.
Подхожу к нему и говорю: «Сколько можно терпеть выходки Спартака? Что делать?» Володя поворачивает опухшую от лежания физиономию, крайне недоволен: «Хули тебе от меня надо? Надоел хуже редьки». И опять к батарее. Сгораю от стыда и оскорбления. Спартак торжествует. Кричит про «пытичку» на моем дворе, про то, что никого и ничего не боится, предлагает послать ксиву строгачам: пусть скажут кто из нас прав, кто виноват. Трясет неистово широкими ладонями: «Когда уснешь, задушу своими руками!»
Наутро все же проснулся живым. В кормушке принимают пайки хлеба и сахара. Гремит бачок кипятка. Камера готовится к завтраку. А меня тошнит. Отвращение ко всему. Не хочется ни есть, ни просыпаться. К кормушке выстраивается очередь — начали раздавать баланду. Обычный завтрак — вываренная до костей рыба с жидкой картошкой. Кто ест, сидя на нарах, кто ставит миску на нары, а ест с пола на корточках. Завтрак я провалялся. Ребята оставили тюху (хлебную пайку) и порцию, две чайные ложки сахара в кружке. Двигают: ешь. Никакого желания. Спартак продирает глаза, лежит напротив, курит. Утреннюю баланду он всегда пропускает, поест, когда захочет, с чужого ларя и дачки. Вор должен хорошо питаться, иначе какой же он вор? Поесть бы ему сначала, нет, день начинается с ругани. Что ему самому за удовольствие — заводиться с утра? Решил, очевидно, не давать мне ни минуты роздыха, «покажи приговор, я хочу прочесть». Я не обращаю внимания. Да и слабость по телу, одно только нужно — покоя.
Спартак рычит, требует приговор.
— Не дам.
— Я маму твою… Сам отберу! — вскакивает с нар.
Пытаюсь отвести очередное столкновение, говорю спокойно:
— Все видели, читали — хватит.
— Уй! — гримасничает с гадливым презрением. — Даже голос, как ты говоришь — противно! Я таких профессоров на х… вертел — убью! — кидается к моим нарам.
Схватились посреди камеры. Ударил меня вскользь по челюсти. Хватаю обе его руки за локти. Вырывает руки, пока не удается, летит головой в подбородок, но промахивается, таскаем друг друга по камере, рук его не выпускаю. Гляжу в упор в носатую морду, в пылающие угли озверелых глаз, а треснуть не могу, рука на зэка не поднимается, потом, когда нагляжусь на таких зверей, да сам хлебну от них досыта, перестану жалеть. Хоть убей его, скажу только: собаке собачья смерть. Слишком много горя от них, слишком необратимо исподличались. Но в первых потасовках еще заслоняло то, что враг твой — брат твой, потому что зэк. Лишь потом станет ясно, как плохи бывают зэки, как жестоки, несправедливы, страшны они для других зэков, чтоб не видеть между ними огромной разницы, приходится наказывать и бить одних, чтоб защитить других. Поэтому таких, как Спартак, нельзя жалеть.
Нас разняли. Чувствую удушье, словно петля на шее. Затягивают с двух сторон: менты — с одной, Спартак — с другой. Невыносимо. И нет ни сил, ни возможности остановить, скинуть удавку. Вроде бы все сделал, что мог, чтобы отменить неправедное наказание и добиться передачи, а добился пытки «отстойником» и угрозу нового наказания. Как мог пытался загасить конфликт со Спартаком, а он разгорелся до мордобоя. Дальше некуда. Остается одно — голодовка.
К завтраку я не притрагивался, можно считать, что голодовку начал. Надо объявить об этом дежурному офицеру. Стучу в кормушку.
Открывает молоденький белобрысый контролер с комсомольским значком на зеленом кителе, прошу позвать дежурного офицера, которого я должен поставить в известность о начатой голодовке. «Пошел на х..!» — кормушка с треском захлопывается.
Камера наблюдает молча. Даже Спартак заглох. Достаю из мешка лист писчей бумаги, подаренной адвокатом, и пишу на имя начальника тюрьмы майора Котова объявление о голодовке. В связи с незаконным лишением передачи, угрозами и издевательствами администрации, создавшей невыносимые условия пребывания в камере, отказываюсь от принятия пищи до личной встречи с прокурором по надзору. Чтоб не вызывать лишних разговоров и подозрений, кладу бумагу на стол: «Читайте». Если не покажу, могут подумать, что это жалоба на Спартака или что я прошу перевести меня в другую камеру. И то и другое по зэковским понятиям «западло». Вездесущий Гвоздь первый подлетает к бумаге. Читает вслух, с ухмылкой делает ударение на словах о невыносимых условиях в камере, поскольку речь идет об условиях, созданных администрацией, текст не вызывает нареканий.

























