Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях
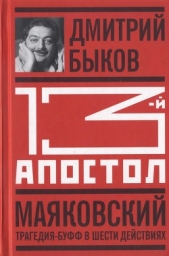
Тринадцатый апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях читать книгу онлайн
Подлинное значение Владимира Маяковского определяется не тем, что в советское время его объявили «лучшим и талантливейшим поэтом», — а тем, что и при жизни, и после смерти его личность и творчество оставались в центре общественного внимания, в кругу тем, образующих контекст современной русской культуры. Роль поэта в обществе, его право — или обязанность — активно участвовать в политической борьбе, революция, любовь, смерть — всё это ярко отразилось в стихах Маяковского, делая их актуальными для любой эпохи.
Среди множества книг, посвященных Маяковскому, особое место занимает его новая биография, созданная известным поэтом, писателем, публицистом Дмитрием Быковым. Подробно описывая жизненный путь своего героя, его отношения с властью, с женщинами, с соратниками и противниками, автор сосредоточивает внимание на ключевых моментах, видя в них отражение главных проблем русской интеллигенции и шире — русской истории. Этим книга напоминает предыдущие работы Быкова в серии «ЖЗЛ» — биографии Б. Пастернака и Б. Окуджавы, образуя вместе с ними трилогию о судьбах русских поэтов XX века.
знак информационной продукции 16+
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конечно, она ничего не поняла.
Действие пятое. ГЛАВАРЬ. 1923–1927

ПЯТОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
Вопрос о том, почему Маяковский после 1923 года — казалось бы, на пике таланта и формы — уходит в «бессодержательность», как назвал Пастернак его газетную и рекламную поэзию, — значительно сложнее, чем привыкли думать. Обычно приходится сталкиваться с двумя трактовками.
1. Лирическая поэзия в России прекращается в это время вообще — не только по цензурным обстоятельствам, но потому, что статус поэта радикально меняется. Поэт помещен в искусственные, унизительные обстоятельства, тотально подконтролен, вынужден подчиняться политике партии — а потому его труд лишается всякого смысла.
Это неверно уже потому, что как раз в середине двадцатых — до 1927-го примерно — в России расцветает книгоиздание. Нэп позволяет издавать не только идейных, не только попутчиков, но и самых что ни на есть «бывших». Печатается даже Кузмин, написавший в это время свою самую сильную книгу «Форель разбивает лед». Вообще говорить о поэтическом молчании двадцатых можно лишь с огромной долей условности: молчат, допустим, Ахматова и Мандельштам, почти перестает писать Цветаева (после «Крысолова»), в эпос уходит Пастернак, в газетчину — Маяковский, гибнет Есенин; но «Улялаевщина» и даже «Пушторг» Сельвинского, «Сполохи» Луговского, поэтические дебюты обэриутов и даже ироническая лирика Инбер — все это далеко не второсортно. По разным причинам ушли из литературы (временно или навсегда) все значительные авторы, заставшие литературный процесс Серебряного века, но тем, кто начал писать и печататься после революции, в двадцатые годы вполне комфортно.
2. Литература — явление концертное, серьезно зависящее от слушателя, и если этот слушатель меняется или вовсе исчезает, ей тоже ничего не остается, как затаиться.
Это аргумент уже более серьезный. В самом деле, аудитория, обмиравшая от Блока, знавшая наизусть раннего Маяковского или даже Вагинова, — стремительно уезжает, вымирает или деклассируется. Писать серьезную лирику в России становится не для кого, а в эмиграции все вырождается да вдобавок отравляется естественной для эмигранта обидой на родину. Все это так, однако молодежь двадцатых, по воспоминаниям современников, вовсе не была равнодушна к поэзии. Иное дело, что требования у нее были новые, специальные. И понимала — то есть знала — она меньше, нуждаясь в особой конкретности и наглядности.
Маяковский после 1923 года действительно выпал из литературы, остался в пустоте, потому что оставаться в это время в литературе — примерно то же, что играть в этой песочнице сейчас. Там продолжают кипеть свои страсти, но жизнь происходит в других сферах. Маяковский в этот период действительно уходит на соседние территории: отчасти потому, что ищет там, как объяснил Тынянов, новую выразительность. Отчасти потому, что реальность уже не вмещается в лирику. Отчасти потому, что, не желая больше эту реальность воспроизводить, он хочет ее творить. А отчасти потому, что, как показано в лучшем его сценарии «Как поживаете?», начинает трансформироваться лирический герой: он, как придумано там в сцене визита автора в издательство, уменьшается.
В литературе давно уже делать нечего: пусть Маяковский после разрыва с литературными кругами обречен на одиночество в узкой лефовской секте — это все же лучше, чем доигрывать в старые игры. После Серебряного века литература уже никогда не обретала — ни в России, ни в мире — статуса государственной религии. Прав Шкловский в «Литературе факта»: в наше время у поэта (да и у писателя) должна быть вторая профессия.
Прежний лирический герой после 1923 года невозможен: у него нет среды, его право на лирическую позу утрачено, ему негде быть. Выбор у него небольшой: либо забиться в щель и там стонать, либо конформистски видоизменяться. Если же отказаться от него вовсе — приходится становиться частью реальности, творить ее, оформлять, подбирать ей шрифт.
Маяковский, говоря, что он «становился на горло собственной песне», лукавил — или делал, по обыкновению, хорошую мину: песне на горло не очень-то встанешь. Ему и не хотелось писать лирику — иначе поэта ничто не остановит, всех к чертям пошлет и напишет. Но это лирическое молчание было общим. К Мандельштаму, например, голос вернулся только в 1930 году, после поездки в Армению; и к Маяковскому, парадоксальным образом, тоже — потому что самоубийство и было возвращением голоса (поэма — только вступление к нему). Все дело в том, что в 1930 году надежды на мирное сосуществование со страной исчезли: надо было становиться изгоем, и Мандельштама выручило еврейство. Он вспомнил, что в крови у него наследие царей и патриархов. Что могло выручить Маяковского — трудно представить: опереться на грузинскую составляющую, уйти в переводы — тоже не выход. Ахматовой помог опыт Серебряного века — и «Поэму без героя» она написала именно о предвоенном опыте. Маяковский попытался написать такую поэму уже в 1923 году (опираясь опять-таки на собственного «Человека»), но сама эта поэма по духу своему — «Поэма конца».
Началось ли что-нибудь после этого конца, зафиксированного лучшими поэтами России в середине двадцатых, — так до сих пор и неизвестно.
ЛЕФЫЙ МАРШ
Как говорила Ахматова, акмеистов было шесть, и седьмого не было. ЛЕФ — это тоже шестеро: Маяковский, Брики, Родченко, Асеев, Третьяков.
Все остальные — либо временные участники, привлеченные для престижа, как Пастернак, либо недо-единомышленники, не вполне согласные с позицией ЛЕФа, но интересующиеся его программой и участниками (как Шкловский), либо молодняк (как Кирсанов), либо быстро отколовшиеся и, в общем, глубоко чуждые ЛЕФу люди, которые могли разделять лефовские взгляды, но категорически не понимали лефовского образа жизни (как Чужак).
А только образ жизни и был.
Милостивые государи и милостивые государыни, то есть нет — уже дорогие товарищи! Что есть ЛЕФ? ЛЕФ есть семейное предприятие, и этого-то не понимал, например, Николай Чужак, правоверный дальневосточный коммунист, которому не понравилось, что в первом же номере журнала «ЛЕФ» были помещены поэма «Про это» и иллюстрирующие ее коллажи Родченко, на которых были сам Маяковский и Лиля. Не понимал он, почему надо в «ЛЕФе» печатать «Непопутчицу» Брика — повесть явно о Лиле и уж во всяком случае о новом быте с отчетливыми отсылками к собственному опыту.
Кстати о «Непопутчице». Маяковский кое-что оттуда позаимствовал: повесть не бог весть какого качества — Брик был хорошим критиком, но посредственным прозаиком, — однако одна сцена оттуда прямо перекочевала в «Баню»:
«„Ты разговариваешь со мной, как с девчонкой, которая до смерти надоела. Если я тебе не нужна, скажи. Сделай одолжение. Уйду и не заплачу. А вола вертеть нечего“.
„Соня!“
„Ничего не Соня! А будь любезен говорить начистоту. Никакой супружеской верности я от тебя не требую. Но делить тов. Сандарова с какой-то там буржуазной шлюхой я тоже не намерена“.
„Что? что? что такое?!“
Сандаров вскочил с дивана. Соня швырнула ему в лицо исписанный листок.
(А листок из рабочего блокнота весь исписан фамилией роковой красавицы Велярской. — Д. Б.)
Сандаров взглянул на него и стиснул зубы.
„Тов. Бауэр, не думаю, чтобы такие скандалы соответствовали правилам коммунистической морали. Я предлагаю временно прервать нашу связь. Надеюсь, вы не возражаете? — Идите“».
Сравним:
«Победоносиков: Я прошу тебя прекратить этот разговор. Какое семейное мещанство! Каждый врач скажет, что для полного отдыха необходимо вырвать себя, именно себя, а не тебя, из привычной среды, ну и я еду восстановить важный государству организм, укрепить его в разных гористых местностях.





















