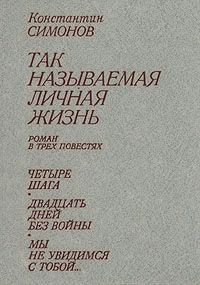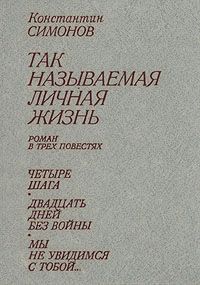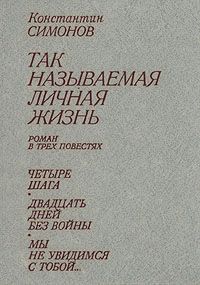Так называемая личная жизнь

Так называемая личная жизнь читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Не знаю, - сказал Лопатин, - у нас никогда этого не знаешь. Будем для верности считать - через месяц-полтора.
- Когда приедешь в Москву, застанешь мое письмо, - сказал Вячеслав Викторович. - Будет тебя ждать.
Лопатин ничего не ответил, кивнул. Если письмо будет написано, значит, оно придет в Москву и будет там ждать. Все, что могли оба сказать, уже давно сказано. И Вячеслав ни одним словом не возвращался к этому. Вернулся только теперь, в самую последнюю минуту.
Состав дернулся и медленно пополз вдоль платформы.
Режиссер остался на месте. Стоял, закинув руки за широкую сутулую спину, и смотрел вслед. А Вячеслав еще шел рядом с вагоном, держась за поручень. Шел, все шире и шире шагая, наконец, оторвав руку, остановился, вытащил из кармана шапку и помахал ею вслед.
Лопатин, не заходя в купе и не раздеваясь, стал у окна в коридоре.
Мягкий вагон был такой же старый, обшарпанный, в каком он ехал в Ташкент. Все было такое же или почти такое же. Не хватало только женщины, которая сейчас выйдет из соседнего купе, станет у другого окна и будет курить, изредка почему-то, неизвестно почему, поглядывая на тебя.
За окном тянулись окраины Ташкента. Вдалеке низкие корпуса какого-то завода - отсюда не понять, - может быть, того самого... Ближе - глинобитные дома и дувалы, а еще ближе, сходясь и расходясь, пересекая друг друга, бежали рельсы.
Лопатин вспомнил, как они шли с секретарем ЦК по заводскому двору вдоль узкоколейной новой ветки и секретарь рассказывал ему, как зимой сорок первого, во время самою большого потока эвакуации, собрали в Ташкенте много тысяч дехкан со своим инструментом - мотыгами и кетменями - и через две недели, сделав новые выемки и новые насыпи, проложили три новые нитки станционных путей, совершили, казалось бы, невозможное - вдвое увеличили емкость Ташкентского железнодорожного узла, на котором разгружались завод за заводом.
Наверное, все-таки способность совершать немыслимое рождается из потребности в том, чтобы оно совершалось. И эта потребность, а не только собственная смелость толкает людей на подвиг. До зарезу необходимый. Да и вообще, верно ли называть подвигом то, что совершают без необходимости? Дерзостью, удальством - да, но не подвигом! Наверное, в мирное время никому по пришло бы в голову делать многое из того, что сейчас считаем естественным и что когда-нибудь потом будет казаться невозможным, хотя оно и делалось. Все-таки война - как труба Страшного суда - заставляет человека почувствовать себя голеньким, держащим ответ за все им сделанное перед чем-то великим. Заставляет его страстно желать, чтобы праведных дел оказалось за ним все-таки больше, чем грехов. Все это, конечно, только если он верит. Не в бога, а во что-то, что намного важнее его собственной жизни, и это что-то, в общем-то, судьба его страны. Та или другая. А война действительно Страшный суд! Чего уж страшнее этого суда, на котором отвечаем и за все, что успели сделать, и за все, чего не успели. А тот, кто надеется, что его лично на этот Страшный суд не вызовут - забудут или не успеют, - вот тот действительно грешник перед всеми другими! Тому по всей справедливости только в ад! Хотя по некоторым не видно, чтобы даже отдаленно задумывались над этим. Скорее наоборот, рассчитывают жить в послевоенном раю и гадают, через сколько времени он для них на чужом горбу и крови начнется, подумал Лопатин, вспомнив об одном говорливом человеке, не понравившемся ему на Новом году у Вячеслава. Так не понравившемся, что, самое малое, хотелось треснуть его пистолетом по лысой макушке, чтоб хоть не говорил про победу и не вскакивал первым, поминая мертвых, когда сам от головы до пяток состоит из глубокого равнодушия ко всему, кроме собственного стремления остаться целым.
А кто-то все равно его любит и радуется, что он жив и здоров и останется живым и здоровым. И кто-то, какая-то женщина, и может быть не только та, с которой он пришел на этот Новый год, а еще какая-то, другая или третья, спит с ним, и слушает его исповеди, и одобряет его желание жить вместо других...
Лопатин думал об этом, глядя в окно на соседние, сходившиеся все ближе и ближе к одной нитке пути. Думал с несвойственным ему ожесточением, без того хладнокровия, с которым обычно напоминал себе в минуты гнева, что люди бывают разные, на том и стоит земля.
Сейчас этого хладнокровия не было. В конечном итоге это была мысль о себе самом, уезжавшем снова на фронт, и о женщине, которую он полюбил и которую оставлял здесь, поблизости от этого человека. И от других, таких, как этот. Да, да, было сейчас в его чувствах что-то от тон слепой мужской злости, с которой думают на фронте о молодых мужчинах, задержавшихся тут, в тылу, недалеко от женщин, которых не увидишь до конца войны! С правом или без права, с основанием или без основания, справедливо или несправедливо, но приходит минута, когда думают... Вот и к нему пришла эта минута.
"Не рановато ли, - усмехнулся он над собой. - Хоть бы до фронта доехал!"
Поезд замедлил ход и остановился на разъезде. Навстречу мимо - на зеленый свет - тяжело грохотал на стыках эшелон с нефтяными цистернами. Первый из тех, что будут теперь идти навстречу, днем и ночью, все четверо суток, до самого Красноводска.
Губер еще в первое утро, когда мылись в бане, говорил о диверсионной группе, сброшенной немцами осенью в песках под Чарджоу, чтобы взорвать единственный железнодорожный мост через Амударью, перерезав эту нефтяную нитку из Красноводска. Группу сбросили слишком далеко в песках. И ее там же, в песках, и встретили, когда ей оставались сутки ходьбы до моста...
"Да, всего одна топкая нитка", - подумал Лопатин, вспомнив этот рассказ.
Эшелон с нефтью прошел, и поезд снова тронулся. Слева уже не бежали навстречу полоски рельсов. Сразу за шпалами - откос и переметенная снегом степь...
Лопатин пошел в купе, где расчерчивали пульку, готовясь играть в преферанс, трое его соседей - два железнодорожных начальника, ехавших до Чарджоу, и военврач, ветеринар, сходивший еще раньше на станции Каган.
Военврач выглядел стариком, а форма на нем была новенькая, топорщившаяся, словно он первый раз ее надел. Его только что призвали, и он ехал под Бухару, где стояла кавалерийская часть.