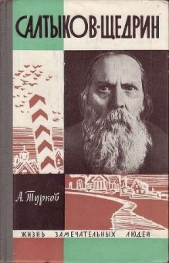Салтыков-Щедрин

Салтыков-Щедрин читать книгу онлайн
Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как всегда, работал Салтыков напряженно и одновременно в разных жанрах, а теперь, когда он мог признать «Отечественные записки» «своим» журналом, с особой охотой и активностью. Салтыков хотел возродить в «Отечественных записках» тот жанр, который он создал в «Современнике» — ежемесячную публицистическую хронику типа «Нашей общественной жизни». Такой цикл общественных обозрений — периодических «фельетонов», как тогда называли, он предполагал начать с размышлений о «легковесных деятелях». Так создается «фельетон» «Легковесные» — об истинных деятелях современности, истинных созидателях нашего будущего.
В «эпоху возрождения» общественную ниву заполонили каплуны мысли. Но время прошло. Где вы, ожиревшие бедные и безобидные каплуны? «Где вы, воспетые некогда мною литераторы-обыватели»? Либеральное «курлыканье безвозвратно смолкло, и взамен его общественная наша арена огласилась ржанием резвящихся жеребят».
Это они, «легковесные» деятели современности. Внутреннее содержание производимого ими бессвязного стенания, гула и треска «тем только и отличается от наглой бессмыслицы, что в основе его лежит доходящая до остервенения ненависть к мысли».
Так Салтыков открывает свою неустанную — тягчайшую и бескомпромиссную борьбу с торжествующей реакцией, облачившейся в новые одежды, напялившей новые маски, с властью, отказавшейся даже от своих собственных попыток обновления и «возрождения».
Отчего вы не печатаете фельетон «Легковесные»? — спрашивал Салтыков Некрасова. «Оттого ли, что он не хорош, или оттого, что печатать его не время теперь?» Некрасову, разумеется, не удалось провести «фельетон» через цензуру. Только пройдя через цензурные мытарства, в изуродованном виде появился он не в первых книжках журнала, а лишь в конце 1868 года.
Салтыков тем не менее пишет следующий «фельетон» — «Литературное положение». Положение современной литературы противоестественно. Литература потеряла свое руководящее значение, она не способна создать плодотворную идею, она утратила свободу и подчинилась требованиям «толпы». В этой, пусть и «цивилизованной» толпе пропал даже самый вкус к литературе, к мысли, впереди маячит лишь «кусок», торжествуют «брюхопоклонники». Из среды Катонов-чревовещателей (намек на катковствующую прессу), из среды благонамеренных «охочих» литературных птиц раздаются гнусные обвинения литературы в разврате, в пропаганде анархии, в организованном посягательстве на жизнь и спокойствие общества. Нет «простой понимающей среды, без которой деятельность писателя есть деятельность, вращающаяся в пустоте». Наступила «эпоха приведения литературы к одному знаменателю, которая собственно и составляет наш золотой век наук и искусств». (Салтыков не забыл слова из старого уваровского циркуляра, формулировавшего принцип: «самодержавие, православие и народность».) Салтыков вновь и вновь вспоминает сороковые годы, время Белинского и Грановского. Конечно, и тогда литература находилась «не в белом теле». «Тогда даже существовали для нее такие ограничения, которых теперь и в помине нет». Но иным, глубоко сочувственным, было отношение к литературе публики, искавшей и находившей в ней великую руководящую мысль.
Но Салтыков верит и надеется. Мысль не может изгибнуть навеки. «Как ни обширно кладбище, но около него ютится жизнь. История не останавливается оттого, что ничтожество, невежество и индифферентизм делаются на время как бы законом и обеспечением мирного человеческого существования. Она знает, что это явление преходящее, что и под ним и рядом с ним, не угасая, теплится правда и жизнь».
И этот «фельетон» удалось опубликовать не сразу, по лишь в августовской книжке «Отечественных записок».
Салтыков задумывает новый цикл, который он называет «провинциальными письмами» («Письма о провинции»). В них предстает провинция не только после крестьянской реформы, но и в разгар двух других реформ 1864 года, вызвавших бурления и распри в провинциальном болоте, — судебной и земской. Суд терял свой сословный характер, создавались органы местного самоуправления, начало деятельности которых уже вызвало мгновенную насмешливую реакцию Салтыкова в очерке «Новый Нарцисс».
Первое из «провинциальных писем» открывалось достаточно бодрыми словами; «С некоторого времени жизнь в провинции изменяется. Мало-помалу в эту жизнь входят новые элементы, которые захватывают более значительную массу деятелей. Образуются зачатки жизни умственной, и хотя еще далеко до самостоятельности, но, по крайней мере, нет того повального бездельничества, которое, в буквальном смысле слова, сокрушало провинциальное общество лет двенадцать-тринадцать тому назад», то есть где-то в середине пятидесятых годов и, разумеется, ранее.
Перемещение центров деятельности налицо, но смысл такого перемещения не выяснился. Отсюда переполох и шатания. Сцену занимают три главные группы. На одной ее стороне — «люди, которые издревле привыкли понимать себя прирожденными историографами России в зиждителями ее судеб», те, кто испокон века были «сочинителями» российской истории. Это именно они — «глуповская» бюрократия и «крашеные гробы» — закоснелые крепостники — дворяне-землевладельцы. На другой стороне — люди новые, «пришельцы» — деятели новых судов и земских учреждений, «новые сочинители на поприще русской истории», иначе говоря — «пионеры». «Середку (хор) занимают так называемые фофаны, то есть вымирающие остатки эпохи богатырей» — косная и инертная масса мелких землевладельцев и чиновников.
Но где же выход? Что делать нам, провинциалам? До боли восприимчивый, постоянно волнующийся Салтыков видит беду в том, что не только «мастодонты»-историографы, но и пришельцы-пионеры трагически поражены мертвенностью и апатическим равнодушием к затянувшим их мелочам, а великая мысль о будущем им недоступна. «Подобно провинциальным актерам, мы постоянно играем кожей, а не внутренностями. В нас не волнуется кровь, не болит сердце...»
Наконец, третье «Письмо из провинции» прямо обвиняло «историографов» в злостном подрыве реформы 19 февраля. Это был удар в самое больное место.
Произошла, как представляется негодующему Михаилу Салтыкову, «какая-то беспримерная и только у нас возможная путаница»: влиятельными практическими деятелями на поприще реформы оказались именно историографы; «люди же, всецело преданные делу, верящие в его будущность, очень часто не только отстраняются от всякого влияния на правильный исход его, но даже, к великой потехе многочисленного сонмища фофанов и праздношатающихся, обзываются коммунистами, нигилистами, революционерами и демагогами». Да, такая путаница действительно произошла, и, может быть, Салтыков прав, утверждая, что она возможна только у нас; но не было в этой путанице ничего случайного и удивительного; ведь реальная власть по-прежнему принадлежала историографам (и не только провинциальным, о чем вскоре засвидетельствовала судьба самого Салтыкова). И не в их силах и не в их интересах было понять «существенный смысл реформы 19 февраля» так, как его понимал автор «Писем о провинции». Тем более им было чуждо углубление и развитие этого «существенного смысла», мерещился в таком углублении ни больше ни меньше призрак революции, потрясения основ извечной «историографской» власти, власти произвола и застоя.
Рязанские «историографы», разумеется, узнали себя в иносказательных салтыковских образах и не на шутку переполошились. «Мои «Письма из провинции» весьма меня тревожат, — пишет Салтыков Некрасову 21 марта. — Здешние историографы, кажется, собираются жаловаться...» Положение действительного статского советника Салтыкова среди своих сослуживцев становится все более тяжелым: «Мне очень трудно и тяжело; почти неминуемо убираться отсюда». Салтыковым овладевает мучительная, страшная тоска: «я теперь потерял всякую меру. Скоро, кажется, горькую буду пить. Так оно скверно».
Продолжая неукоснительно исполнять свои служебные обязанности, он проклинает служебную каторгу, он не в силах терпеть, его мысль бьется в тисках цензуры, его нравственное чувство изнемогает в отношениях с «историографами» и «брюхопоклонниками», он страдает от неприязненного равнодушия «цивилизованной толпы» «пионеров». Его отношения с рязанским «глуповским» губернатором Болдаревым, которого, по словам Салтыкова, именно за глупость-то в губернаторы и поставили, все обостряются.