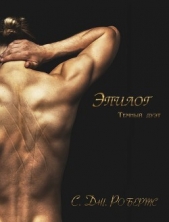Дневник моих встреч

Дневник моих встреч читать книгу онлайн
Замечательный русский художник Юрий Павлович Анненков (1889–1974) последние полвека своей жизни прожил за границей, во Франции. Книга «Дневник моих встреч» — это воспоминания о выдающихся деятелях русской культуры, со многими из которых автор был дружен. А.Блок, А.Ахматова, Н.Гумилев, Г.Иванов, В.Хлебников, С.Есенин, В.Маяковский, М.Горький, А.Ремизов, Б.Пастернак, Е.Замятин, Б.Пильняк, И.Бабель, М.Зощенко, Вс. Мейерхольд, В.Пудовкин, Н.Евреинов, С.Прокофьев, М.Ларионов, Н.Гончарова, А.Бенуа, К.Малевич и другие предстают на страницах «Дневника...», запечатленные зорким глазом художника. Рядом с людьми искусства — государственные и партийные деятели первых лет революции, прежде всего Ленин и Троцкий.
Настоящее издание дополнено живописными, графическими и театральными работами Ю.П.Анненкова 1910-1960-х годов. Многие из них никогда ранее не публиковались. В «Приложение» включены статьи Ю.П.Анненкова об искусстве. В России они публикуются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пастернак писал: «Больше всего на свете я любил музыку… Жизнь вне музыки я себе не представлял… Музыка была для меня культом, то есть той разрушительной точкой, в которую собиралось все, что могло быть самого фанатического, суеверного и самоотреченного во мне».
Однако если поэзия Пастернака, ее фонетическая фактура (непереводимая на иностранные языки, как, впрочем, и всякая поэзия) вытекала из музыки, эта поэзия, тем не менее, не стала абстрактной, беспредметной, как это случилось у Хлебникова и у Крученых. Правда, она не касалась ни революции, ни социальных вопросов. Природа, пейзажи, чувства гораздо сильнее привлекали внимание поэта, чуждого хронике происшествий, материалистической действительности и реализму. «Искусство, — писал он, — есть запись смещения действительности, производимого чувством».
Это поэтическое «смещение» действительности было впоследствии истолковано полуграмотной советской властью как «извращение» действительности и стало одной из причин литературной (и политической) опалы Пастернака, хотя, по существу, формула Пастернака ничего нового не представляла. Не читали ли мы в чеховской «Чайке» следующую фразу Треплева: «Надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как должна быть, а такою, как она представляется в мечтах».
Но Чехов умер за семнадцать лет до нашествия большевизма и успел сделаться кумиром буржуазного читателя и буржуазного зрителя.
Чеховская литература, лишенная особых формальных заострений, пришлась по вкусу и мелкобуржуазным руководителям советской власти, и Чехов был признан классиком. Жан-Поль Сартр, вернувшись из путешествия по Советскому Союзу, написал в своих впечатлениях, что в больших городах СССР (страна бесклассового общества) театры посещаются, «как и в Париже, главным образом мелкой буржуазией».
Если, говоря это, Сартр споткнулся идеологически, то во всяком случае он доказал, что его писательская наблюдательность его не обманула.
Литература Пастернака, напротив, полна формальных заострений, и потому, повторив фразу Чехова, он был взят под запрет.
Из-за дальности расстояния (Москва—Петербург) я встречался с Пастернаком сравнительно реже, чем с петербуржцами, и был с ним на «вы». Впрочем, в литературной среде, с которой у меня сохранялись постоянные и тесные связи, я был на «ты» (в России и в Советском Союзе) лишь с Евгением Замятиным, с Владимиром Маяковским (Володька—Юрка), с Сергеем Есениным, с Алексеем Толстым, с Василием Каменским, с Виктором (Виктей) Шкловским, с Михаилом (Мишенькой) Кузминым, с Александром Тихоновым (директором издательства «Всемирная литература»), со Львом Никулиным (впоследствии лауреатом Сталинской премии) и также — по театральной линии — с Николаем (Николашей) Евреиновым и с Всеволодом Мейерхольдом. Среди художников я был на «ты» (в России и в Советском Союзе) только с Иваном Пуни (моим другом детства), с Марком Шагалом, с Владимиром Татлиным, с Натаном (Наташей) Альтманом. Со всеми остальными я был на «вы»…
В 1921 году в моей петербургской квартире Пастернак позировал мне для наброска. Он сел в кресло, устремил свой взгляд в угол комнаты и превратился в неподвижную скульптуру. Я этого не любил. Я всегда предпочитал модель, свободную в движениях, чтобы схватывать наиболее характерные положения, повороты, взгляды. Я попросил Пастернака разговаривать со мной, пока я рисую. Он улыбнулся и ответил:
— А не будет ли легче для вас, если я стану только о чем-нибудь упорно думать, а не разговаривать?
Мы оба засмеялись, и Пастернак рассказал мне, что об этом всегда просил своих моделей его отец, Леонид Пастернак, когда они позировали ему для портретов. Делая набросок со Льва Толстого, Леонид Пастернак обратился к нему:
— Старайтесь, пожалуйста, Лев Николаевич, о чем-нибудь интенсивно думать.
На что Толстой ответил с недоумением:
— Да я всю жизнь только этим и занимаюсь.
Мы снова засмеялись…
В 1922 году в Берлине, в издательстве З.И.Гржебина, вышел на русском языке лучший сборник пастернаковской поэзии «Сестра моя — жизнь». Сделанный мною портрет Пастернака был помещен в этой книге в качестве фронтисписа. Мы были тогда молоды и перегружены работой. Жизнь мчалась. Сегодня я горжусь этим маленьким томиком, объединившим нас на долгие годы…
В те далекие годы юный Пастернак верил в победу нового искусства, в свободу художественного творчества. Но уже несколько лет спустя он писал с горечью:
Здесь тоже, по странному совпадению, вспоминаются слова из «Чайки»: «Я теперь знаю, понимаю… что в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть. Умей нести свой крест…» (слова Нины Заречной).
Встречи и разговоры с Пастернаком, как бы кратки они ни были, меня всегда волновали. Его особая форма речи, столкновения поэтической отвлеченности с уличной повседневностью, сплетенье синтаксического своеобразия с бытовым щебетом, и так — о чем бы он ни говорил: о любви, об искусстве или о какой-нибудь мелочи, о какой-нибудь полуоткрытой фортке.
Вот пример:
Еще один пейзаж (из «Доктора Живаго»): «Чудо вышло наружу. Из-под сдвинувшейся снеговой пелены выбежала вода и заголосила. Непроходимые лесные трущобы встрепенулись. Все в них пробудилось. Воде было где разгуляться. Она летала вниз с отвесов, прудила пруды, разливалась вширь. Скоро чаща наполнилась ее гулом, дымом и чадом. По лесу змеями расползались потоки, увязали и грузли в снегу, теснившем их движение, с шипеньем текли по ровным местам и, обрываясь вниз, рассыпались водяной пылью. Земля влаги уже больше не принимала. Ее с головокружительных высот, почти с облаков, пили своими корнями вековые ели, у подошв которых сбивалась в клубы обсыхающая бело-бурая пена, как пивная пена на губах у пьющих. Весна ударяла хмелем в голову неба, и оно мутилось от угара и покрывалось облаками. Над лесом плыли низкие войлочные тучи с отвисающими корнями, через которые скачками низвергались теплые, землей и потом пахнущие ливни…»

Осип Цадкин
Или — противоположное (из «Доктора Живаго»):
«— Ах ты шлюха, ах ты задрёпа, — кричала Тягунова. — Шагу ступить некуда, тут как тут она, юбкой пол метет, глазолупничает! Мало тебе, суке, колпака моего?.. Ты живой от меня не уйдешь, не доводи меня до греха!
— Но, но, размахалась! Убери руки-то, бешеная! Чего тебе от меня надо?
— А надо, чтобы сдохла ты, гнида-шеламура, кошка шелудивая, бесстыжие глаза!
— Обо мне какой разговор. Я, конечно, сука и кошка, дело известное. Ты вот у нас титулованная. Из канавы рожденная, в подворотне венчанная, крысой забрюхатила, ежом разродилась…»
В последний раз я видел Пастернака в Париже в 1935 году, в Madison Hotel, 143, бульвар Сен-Жермен. В этот год, будучи уже в полной славе, Пастернак не имел еще ни седых волос, ни морщин. В продолжение его краткого пребывания во Франции мы много говорили о Париже, а не о советской революции. Политика по-прежнему его не интересовала. Нелепый парадокс нашей эпохи: именно совершенная надполитичностъ Пастернака поставила его к концу его жизни в центре политического международного скандала.