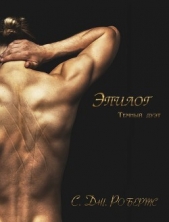Дневник моих встреч

Дневник моих встреч читать книгу онлайн
Замечательный русский художник Юрий Павлович Анненков (1889–1974) последние полвека своей жизни прожил за границей, во Франции. Книга «Дневник моих встреч» — это воспоминания о выдающихся деятелях русской культуры, со многими из которых автор был дружен. А.Блок, А.Ахматова, Н.Гумилев, Г.Иванов, В.Хлебников, С.Есенин, В.Маяковский, М.Горький, А.Ремизов, Б.Пастернак, Е.Замятин, Б.Пильняк, И.Бабель, М.Зощенко, Вс. Мейерхольд, В.Пудовкин, Н.Евреинов, С.Прокофьев, М.Ларионов, Н.Гончарова, А.Бенуа, К.Малевич и другие предстают на страницах «Дневника...», запечатленные зорким глазом художника. Рядом с людьми искусства — государственные и партийные деятели первых лет революции, прежде всего Ленин и Троцкий.
Настоящее издание дополнено живописными, графическими и театральными работами Ю.П.Анненкова 1910-1960-х годов. Многие из них никогда ранее не публиковались. В «Приложение» включены статьи Ю.П.Анненкова об искусстве. В России они публикуются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как я уже говорил в главе, посвященной В.Маяковскому, Пастернак примыкал к наиболее боевой литературной группе того времени: к группе футуристов.
Он встретил революцию, как многие из нас — художников, писателей, поэтов, людей искусства, как Александр Блок, как Сергей Есенин, как Владимир Маяковский, — скорее фонетически, как стихийный порыв, как метель, как «музыку» (по словам Блока).
Но если в следующие годы многие из «попутчиков» (за исключением Замятина, Пильняка и Зощенки) успели уже полностью влиться в «генеральную линию» коммунистической партии, то есть, иначе говоря, превратиться в писателей «советских», которые на одни и те же заданные им темы пишут совершенно одинаково на самых разнообразных языках: на русском, на литовском, на азербайджанском, на эстонском, на армянском, на туркменском и даже на арагонском; если к этому же времени писатели и поэты, не принявшие революции и не услышавшие ее «музыку», оказались уже за границей, то Борис Пастернак (впрочем, тогда еще — далеко не один) решил героически остаться русским писателем на своей родине и творить, выражая свои собственные чувства, свои собственные мысли, не подчиняясь ничьей дирижерской палочке. Когда несколько позже, в конце двадцатых годов, футуристы (Леф — Левый фронт [181], руководимый Маяковским) решили отдать свое искусство «на службу революции», Пастернак разошелся с ними. «Служебные» задачи не связывались у Пастернака с понятием о поэзии.
С этих лет начинает разворачиваться общая драма русского искусства. Революция социальная совпала с революцией в искусстве лишь хронологически. По существу же, социально-политическая революция породила в художественной области подлинную контрреволюцию: сталинско-ждановское нищенское «возвращение к классицизму», «социалистический реализм», мелко-мещанскую фотографическую эстетику, вздутую «марксо-ленинской идеологией», отсутствие мастерства и полицейский запрет всяческого новаторства.
Говоря о Пастернаке, я отнюдь не хочу сказать, что он перешел в «контрреволюционный лагерь»: в контрреволюционном лагере многие тоже утверждали, что искусство должно «служить» политическим идеям. Пастернак оказался вне каких бы то ни было революционных или контрреволюционных политических и социальных лагерей. Равнодушный к социальным проблемам, он остался, как и был, просто поэтом, остался продолжать свою внеполитическую (или, вернее, надполитическую) творческую жизнь.
Выбор своей судьбы, сделанный Пастернаком, оказался наиболее трудным. В ленинский период подобное сожительство художников пера, «пассивно» принявших революцию, с коммунистической властью было еще возможно, но дальнейшая действительность постепенно доказала, что компромиссы такого рода неосуществимы. Именно это и является основным фоном романа Пастернака «Доктор Живаго».
Писатели, поэты, живописцы, композиторы, старавшиеся удержаться в Советском Союзе на внеполитических (или надполитических) позициях, были вскоре заклеймены кличкой «внутренних эмигрантов». На них обрушились все невзгоды.
Сергей Есенин, Владимир Пяст, Андрей Соболь, как впоследствии — Марина Цветаева, покончили самоубийством. Николай Гумилев, Сергей Третьяков, Борис Пильняк, Адриан Пиотровский, Владимир Киршон, Бруно Ясенский и многие другие были расстреляны. Исаак Бабель, Осип Мандельштам, Всеволод Мейерхольд и сколько других погибли в советских тюрьмах и в концентрационных лагерях. Самоубийство Владимира Маяковского имело обратную причину: он застрелился потому, что согласился отдать свою поэзию на службу партии и, таким образом, как выразился Александр Блок о самом себе, умер как поэт, так как дышать ему уже стало нечем.
По странной случайности, именно по случайности, уцелели Пастернак и немногие другие. Кара, которой они подверглись, заключалась в их вынужденном молчании. После сборника стихов «Второе дыхание» [182], вышедшего в 1932 году, не было опубликовано ни одной книги новых стихов и новой прозы Пастернака в течение одиннадцати лет. Кроме переводов. Пастернак перевел почти все трагедии Шекспира, «Фауста» Гёте, произведения Шиллера, Верлена, Рильке и других. Лишь в 1943 году, во время войны и пропагандного восстановления священства и офицерских погон, появилась новая книга стихов Пастернака: «На ранних поездах». С 1945 года по 1960-й — еще пятнадцать лет немоты. Двадцать шесть лет в целом [183]. Французский писатель Тьери Молнье, говоря о Пастернаке, сказал: «Самый большой писатель в Советском Союзе был писатель запрещенный».
Подобное же молчание должна была выдерживать прекрасная Ахматова. Пастернак продолжал, однако, видеть действительность глазами неподкупного человека и художника. Эти честность и неподкупность художника вылились в «Докторе Живаго», придав книге те качества, за которые Пастернак был удостоен Нобелевской премии. Но те же качества, та же честность и неподкупность, вызвали негодование советской власти и ее прихлебателей, негодование, не утихшее до дня его смерти.
Пастернак был москвичом. Но подлинной родиной и творческой атмосферой Пастернака были и остались Вселенная и Вечность. Более близких границ он, при его дальнозоркости, не замечал. Недаром Пастернак писал:
Национальные и патриотические вспышки не захватывали Пастернака — они только мешали спокойствию его творчества. В годы войны (1914–1918) Пастернак советовал «закрыть глаза на войну, чтобы избавиться от „дурного сна“». Впрочем, мы все были противниками войны и всякого рода национальных манифестаций. Я помню, какое унизительное впечатление произвел на меня разгром германского посольства в Петербурге и каким нелепым показалось мне переименование Санкт-Петербурга в Петроград в день объявления войны, в 1914 году.
Мы желали видеть творческое объединение всех людей, людей-братьев, без какого бы то ни было отношения к расовым разницам, к цвету кожи, к языкам, к истории, формировавшей ту или другую народность.

Натан Альтман
Человечество — оркестр. Оркестр без дирижера. Здесь уместно будет напомнить, что в те годы в Москве пользовались большим успехом концерты оркестра без дирижера, оркестра, именовавшего себя «Первым симфоническим ансамблем» или — сокращенно — «Персимфанс». Эти концерты, ставшие тогда очень популярными, вызывали всегда шумные овации слушателей и очень нравились Пастернаку. Он даже как-то сказал мне, что если бы ему пришлось играть в оркестре, то дирижерская «махалка» только мешала бы ему сосредоточиться, он потерял бы внутреннее равновесие и стал бы конформистом.
Пастернак любил говорить о музыке, о ее несомненной связи с поэзией. Музыка была первым, почти детским призванием Пастернака. С ранних лет он лично знал Скрябина, «обожание» к которому «било» Пастернака «жесточе и неприкрашеннее лихорадки», как признался он в своей «Охранной грамоте», вышедшей в свет в Советском Союзе в 1931 году и вскоре попавшей в опалу. Поэзия пришла позже. «Музыка переплеталась у меня с литературой», — рассказывал Пастернак об этом времени в той же «Охранной грамоте». Разговоры этого рода были у Пастернака невольным скольжением темы. Мы начинали говорить о Прокофьеве и соскальзывали на Аполлинера. То же скольжение характеризовало беседы о живописи: мы начинали говорить о Чюрленисе и незаметно переходили к значению звуковых диссонансов, что было, впрочем, вполне естественно [184].