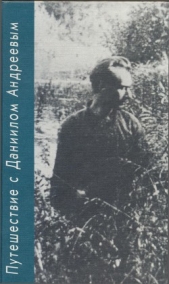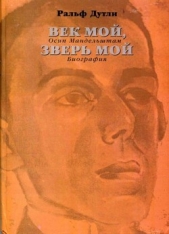Назым Хикмет
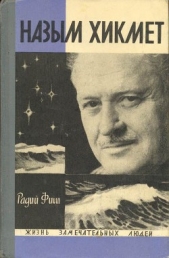
Назым Хикмет читать книгу онлайн
Книга Радия Фиша посвящена Назыму Хикмету (1902 - 1963), турецкому писателю. Он ввёл в турецкую поэзию новые ритмы, свободный стих. Будучи коммунистом (с 1921), подвергался в Турции репрессиям, 17 лет провёл в тюрьмах. С 1951 жил в СССР.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что бы ни делал этот человек - торговал и проповедовал, готовился к революции или писал книги, он весь целиком отдавался делу и верил в него, как фанатики верят в аллаха. Но быстро сменял одну веру на другую.
В Батуме, в шикарном номере гостиницы «Франция», профессор соорудил себе постель из упаковочных ящиков. Положил на них молитвенный коврик и так спал. Готовился к лишениям: «Если на старости лет привыкну к комфорту, трудно будет снова привыкать к тюремным нарам».
Назым с Валей посмеивались над профессорскими чудачествами и блаженствовали на его кроватях - пружинные матрацы, пуховые одеяла. Лафа!
И вот теперь, в поезде, огладив бородку, профессор склонил голову набок, чтоб не мешали свесившиеся с верхней полки ноги, и, подмигнув Назыму, заметил:
- Ну что бы я теперь делал здесь, если бы успел в Батуме разнежиться!
Рядом с Назымом сидели Шевкет Сюрейя и его молодая жена Лееман - они познакомились и поженились в Батуме. Шевкет Сюрейя, блестящий молодой человек, приехал в Батум с головой, набитой идеями пантюркизма. Собирался нести свет братьям тюркам - татарам, азербайджанцам, казахам. Возродить империю, объединив все эти народы - от Средней Азии до Босфора. Но в Батуме тоже стал коммунистом. По крайней мере считал себя таковым.
Эта четверка двадцатилетних молодых стамбульцев составляла «социальную семью» профессора Ахмеда Джевада. Ему она и была обязана тем, что ехала теперь в Москву.
В Московском институте востоковедения потребовался преподаватель турецкого языка. Уполномоченный ЦК по Кавказу Серго Орджоникидзе предложил эту должность профессору. Тот согласился при условии, что в Москву поедет вся его «социальная семья»: ребятам надо учиться. Так они получили направление в Коммунистический университет народов Востока.
Казалось, в вагоне больше нет ни местечка. Но новая волна пассажиров нашла его - в коридорах, в тамбурах.
Назым высунулся в окно.
- И на крыши лезут... Может, нам тоже попробовать? Профессор запротестовал. Вот выедем на русскую равнину, тогда и пробуйте, а то, чего доброго, убьетесь в туннеле или скатитесь в пропасть.
На одной из станций вылезли через окно. Впереди расстилалась ровная как скатерть степь.
- Мы будем у вас над головой. Не беспокойтесь!
Взобрались на крышу. В тогдашней России этот способ путешествовать назывался «горьковским» - в память о горьковских босяках, а может быть, его собственных скитаниях по России.
На крыше тоже было не просторно. Едва нашли место. Ложиться следовало не вдоль вагона, а поперек, иначе во сне можно скатиться. В Ростов приехали прокопченные, черные. У Назыма только белки сверкали.
В Ростове пересадка. Пока ждали поезда, исчез чемодан у Лееман. Глаз не спускали с вещей: многоопытный профессор - он знал десять языков и свободно говорил по-русски - предупредил, что Ростов славится в России ворами, вроде Неаполя в Италии или Пирея в Греции. Как им удалось стянуть чемодан, непонятно!.. Кто-то из попутчиков объяснил. У ростовских жуликов своя, мол, техника: носят пустой чемодан без дна. Ставят его на ваш, зажимают специальным устройством и у всех на глазах идут себе с вашим чемоданчиком, как со своим. Виноват, конечно, был Назым. Затеял спор о роли вождя в революции. Так увлеклись, что и не заметили, как исчез чемодан.
То, что они увидели за Ростовом, никто из них, наверное, не забудет до самой смерти. Поезд остановился на какой-то станции. Из-за штакетника, окружавшего перрон, глядели странные, марсианского вида существа: землистые, зеленоватые лица, животы, раздутые словно шары, а одежда - бог ты мой! - точно узники из камеры голых. Но тогда он еще их не видел. Глаза запавшие, расширенные - один сплошной зрачок.
Кто-то бросил на перрон арбузные корки. И десятки людей перелезли через забор, кинулись поднимать их, вырывали друг у друга из рук. То были голодающие Поволжья.
Засуха поразила юг России - словно сам господь бог сговорился с буржуями уничтожить безбожную революцию. Земля лежала твердая, растрескавшаяся - в трещины входила ладонь целиком.
...Весной 1942 года он впервые увидел, как голодные люди едят траву. Спокойно, не стыдясь и не жалуясь, словно скотина, заключенные из камеры голых, стоя на четвереньках, щипали траву на тюремном дворе... А там, под Ростовом, и травы не было.
Он не мог понять, почему сотни, тысячи голодных не бросились к поезду. Ведь он шел из сытых районов Кавказа, у каждого пассажира были корзинки, сумы с провизией, а у Ахмеда Джевада даже целый ящик сахара - профессор был не только многоопытен, но и оборотист. Что удержало голодных - дисциплина, страх? Но ведь никакой охраны в поезде не было. Или голод довел их до полного отупения?..
Он опомнился, лишь когда поезд отошел от перрона. Как мог профессор сидеть на ящике с сахаром и не отдать хоть часть своего запаса этим живым мертвецам!
Ахмед Джевад возражал: сахар, дескать, в таких количествах никого не спас бы, а он отвечает за свою «социальную семью». Логика говорила за него. Но было здесь что-то важнее логики...
В Москве Назым услышал историю, которую, как легенду, рассказывали товарищи, побывавшие в Финляндии. В 1917 году Ленин скрывался в Хельсинки под чужой фамилией. Как-то на улице он вдруг увидел, что экипаж вот-вот раздавит девочку. Ильич бросился на мостовую, выхватил ее из-под колес. Собралась толпа. Полицейский, поздравив спасителя, попросил его вместе со свидетелями проследовать в участок.
С трудом удалось избежать провала. Один из товарищей стал выговаривать: «Какой, дескать, был смысл рисковать? Погибни девочка, революция не пострадала бы, а гибель вождя могла причинить непоправимый вред».
- Вы полагаете, если руководитель партии потеряет уважение к себе, революция не пострадает? - воскликнул Ленин.
Уважение к себе. Может быть, в этом все дело?.. Валя пишет, что был недавно в гостях у профессора Ахмеда Джевада. Он вернулся в Турцию. Стал депутатом меджлиса. Работал в Обществе турецкого языка, основанном Ататюрком. Написал несколько работ по турецкой грамматике. Сейчас вышел на пенсию, живет в старом деревянном доме на азиатской стороне Босфора. Вспоминал с Валей прежние годы, и слезы текли по морщинистым, дряблым щекам профессора. Кого он оплакивал? Назыма, сидевшего в бурсской тюрьме, или себя самого, каким он был и каким не смог остаться, чтобы сохранить уважение к себе?..
Кенар Мемо давно умолк. Перебрал клювом все перышки в крыльях. И надулся.
Назым отвернулся. Перечитал письмо.
Уважение к поэзии - вот что помогло ему сохранить уважение к себе, что разделило их с Валей.
Снова застучала машинка. Старенькая, разбитая. Буква «о» плохо пробивается.
«Поговорим теперь о поэзии, о том, что ты думаешь о ней. Если употреблять так называемые возвышенные сравнения, то стать поэтом то же самое, что пуститься в колоссальное предприятие, в невиданное путешествие. Успехом завершиться оно может лишь для того, кто обладает длинным, очень длинным дыханием, на все сто убежден в правоте своих идей, любит, не зная границ и пределов, умеет сражаться и быть рассудительным, трудолюбив, как муравей, и обладает кругозором орла. Легко было стать поэтом во Франции XIX века. И очень трудно в Италии в эпоху Возрождения... Мир и наша страна переживают сейчас возрождение. Потому-то и ремесло поэта ныне так тяжело...»
И память - одна из самых тяжких гирь. Как это сказано у Яхьи Кемаля: «Мы, запрятавшись в зыбку забвенья земли, созерцаем с улыбкой творенья земли...» Память, конечно, нужна - поэт должен знать все, что было, все, что сделано до него. Но, садясь писать, нужно уметь об этом забыть. Зерно, чтобы дать росток, должно умереть.
Памятью обладает множество поэтов, а уменьем забывать, к сожалению, единицы. Между тем забвенье нужно в поэзии не меньше, чем память. Взять того же Яхью Кемаля. Старик всю жизнь смотрел на мир из памяти о прошлом. А мог бы стать не просто большим - великим поэтом, если б не прятался в зыбке забвенья, а умел терять, как большинство умеет приобретать... Учитель Яхья!..