Толстой Эйхенбаума: энергия постижения
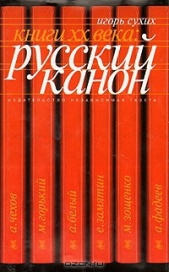
Толстой Эйхенбаума: энергия постижения читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Толстой Эйхенбаума: энергия постижения (1919–1959)
Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость.
Л. Толстой — А. А. Толстой, 18–20 октября 1857 г.
В жизни, кроме труда и сна, — ничего не осталось. Без Толстого я бы, вероятно, помер. Он у меня вроде любовницы.
Б. Эйхенбаум — В. Шкловскому, 25 апреля 1932 г.
Борис Михайлович Эйхенбаум (1886–1959) долго выбирал — призвание, профессию, метод, героя[1].
Приехав в 1905 году после окончания гимназии из провинциального, но богатого культурными традициями Воронежа в Петербург, он первоначально пошел по семейной стезе (отец и мать были известными врачами). Однако вскоре из Военно-медицинской академии Эйхенбаум переходит на биологическое отделение Вольной высшей школы П. Лесгафта, одновременно посещает музыкальную школу Е. Рапгофа.
«Я сделался скитальцем — как все неудачные любовники. Простившись с анатомией, я бросился к роялю, но здесь меня ожидали муки, сомнения и новые соблазны. ‹…› Моя жизнь наполнена безумием и упрямством. ‹…› Я представитель особой национальности, не встречающейся ни в Китае, ни в Европе. Я — русский юноша начала ХХ века, занятый вопросом, для чего построен человек, и ищущий своего призвания. Я — странник, занесенный ветром предреволюционной эпохи, эпохи русского символизма, из южных степей в петербургские мансарды».
Эпоха странствий окончилась вполне ожидаемо. «Литература в детстве не была задумана», — признавался Эйхенбаум. Однако, вспомнив хранившуюся дома поэму деда-литератора, он заключает: «Закон наследственности, о котором почему-то не думали мои родители (Лесгафт отрицал его категорически) привел меня в здание 12 коллегий — на историко-филологический факультет Петербургского университета»[2].
Эйхенбаум поступил на славянско-русское отделение в 1907 году. Позанимавшись и на отделении романо-германском (новые свои колебания он позднее объяснял как выбор между славянофильством и западничеством), он «вернулся на родину», в Пушкинский семинарий С. А. Венгерова, где впервые увидел Ю. Тынянова, друга и соратника на всю жизнь. Ко времени окончания университета (1912) молодой филолог уже вполне освоился в культурном мире Петербурга: сочинял стихи (некоторые будут опубликованы в «Моем временнике»), написал статью «Пушкин и бунт 1825 года» (1907), послужил секретарем у своего двоюродного брата — историка М. К. Лемке, определил круг своих научных знакомых (Ю. Н. Тынянов, В. М. Жирмунский, рано умерший Ю. А. Никольский), посещал литературные вечера символистов и футуристов.
Для Эйхенбаума как человека рубежа веков оказались важны некоторые принципиальные установки времени. Выбор профессии был обусловлен не только его индивидуальными предпочтениями или прагматическими соображениями, но пафосом жизнестроения человека символистской эпохи. В письме отцу (22 сентября 1906 года) Эйхенбаум размышляет: «Моя душа требует не только разрешения проблем человеческой жизни, но и изображения их. Рождает вопросы, чувства, мысли и т. д. жизнь; изображает их с возможной яркостью и силой искусство, а решает, объясняет и т. д. наука. Тут неразрывная цепь, величайший союз и единство. И пока существует человек, до тех пор будет искусство как производная жизни». Несмотря на стихи, выбор был сделан в пользу объяснения. «Родные! Спешу порадовать вас еще неожиданной новостью: мне предлагают остаться при унив. ‹ерсит› ете. ‹…› О научной работе я последнее время усиленно мечтаю — у меня и тема есть определенная, большая и для меня очень подходящая. Соединить работу журнальную с научной — мой идеал. Журнальная, по-видимому, пойдет хорошо» (29 октября 1913 года)[3].
Можно долго гадать, как сложилась бы судьба будущего профессора Санкт-Петербургского университета Бориса Михайловича Эйхенбаума. Но жить и работать ему пришлось уже в Петрограде–Ленинграде. История, от которой он до поры до времени пытался отмахнуться («На митингах, вместо того, чтобы быть судьей, я чувствовал себя подсудимым. Меня судили за то, что я не думаю о государстве, за то, что я близорук, что я — человек маленьких провинциальных масштабов. ‹…› На меня нападала тоска. Петербург — не город, а государство. Здесь нельзя жить, а нужно иметь программу, убеждения, врагов, нелегальную литературу, нужно произносить речи, слушать резолюции по пунктам, голосовать и т. д. Нужно, одним словом, иметь другое зрение, другой мозг. А я хочу просто жить. Не хочу ни вздрагивать, ни показывать кулак и кричать: „Ужо, строитель чудотворный!“) переломила и эту судьбу.
О главном Эйхенбаум говорит пунктирно, заканчивая автобиографическую часть «Моего временника»:
«Война (за месяц до нее — смерть матери).
Революция (за месяц — смерть отца).
Октябрьский переворот.
Голод, холод, смерть сына.
Жизнь у оконной печки.
Мясо из Дома ученых, ковчег Дома литераторов.
Каюты и палубы ГИЗа, черный ледяной дом Института истории искусств.
Смерть Блока, гибель Гумилева.
Виктор Шкловский, остановивший меня на улице. Юрий Тынянов, запомнившийся еще в Пушкинском семинарии.
ОПОЯЗ.
Это все были исторические случайности и неожиданности.
Это были мышечные движения истории. Это была стихия.
Настало время тратить силы»[4].
Первое советское десятилетие он предпочитает тратить силы под знаком ОПОЯЗа.
ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка) — одна из главных филологических легенд советской эпохи. При неясности хронологических границ его существования и размытости персонального состава всегда имел четко определимое ядро (один из современных критиков даже вспоминает о трех мушкетерах). «Опояз — это всегда трое»,— напишет В. Шкловский Р. Якобсону (16 февраля 1929 года)[5], имея я виду себя, адресата и Юрия Тынянова. Но ведь мушкетеров на самом деле было четверо. Четвертым в этом кругу, и не последним по счету, был Эйхенбаум. Именно его статья «Как сделана „Шинель“ Гоголя» (авторская дата: февраль 1919) стала манифестом и знаменем раннего ОПОЯЗа.
Однако его место (чуть в стороне, четвертый, не попавший в заголовок) тоже было не случайным. Молодым мушкетерам было легче: дразня академическую науку, они начинали с формализма как безальтернативной реальности. За плечами тридцатитрехлетнего Эйхенбаума (он был на семь лет старше Шкловского, на восемь — Тынянова, на десять — Якобсона) было чтение немецких философов, увлечение романтиками, почти десятилетний опыт литературной работы в духе философско-психологической критики. Он откликнулся на призыв В. Шкловского в духе пушкинского героя: «Не бросил ли я все, что прежде знал, / Что так любил, чему так жарко верил, / И не пошел ли бодро вслед за ним, / Безропотно, как тот, кто заблуждался, / И встречным послан в сторону иную?»
Той стороной была философская интерпретация искусства и творчества: «В бытии Карамзин видел не предметы сами по себе, не материальность, не природу, но созерцающую их душу. ‹…› Между его философией и поэтикой — полное соответствие. ‹…› И можно прямо сказать, что мы еще не вчитались в Карамзина, потому что неправильно читали. Искали буквы, а не духа. А дух реет в нем, потому что он, «платя дань веку, творил и для вечности»[6].
Иной стороной стал провокативный лозунг Виктора Шкловского «Искусство как прием». «Содержание (душа сюда же) литературного произведения равно сумме его стилистических приемов»[7].
Эта броская формулировка была фундаментально обоснована и проверена на гоголевской «Шинели», особенно наглядно и бескомпромиссно — в анализе знаменитого «гуманного места»: «У нас принято понимать это место буквально — художественный прием, превращающий комическую новеллу в гротеск и подготовляющий „фантастическую“ концовку, принят за искреннее вмешательство „души“. Если такой обман есть „торжество искусства“, по выражению Карамзина, если наивность зрителя бывает мила, то для науки такая наивность — совсем не торжество, потому что обнаруживает ее беспомощность. Этим толкованием разрушается вся структура „Шинели“, весь ее художественный замысел. Исходя из основного положения — что ни одна фраза художественного произведения не может быть сама по себе простым „отражением“ личных чувств автора, а всегда есть построение и игра, мы не можем и не имеем никакого права видеть в подобном отрывке что-либо другое, кроме определенного художественного приема. Обычная манера отождествлять какое-либо отдельное суждение с психологическим содержанием авторской души есть ложный для науки путь. В этом смысле душа художника как человека,, переживающего те или другие настроения, всегда остается и должна оставаться за пределами его создания. Художественное произведение есть всегда нечто сделанное, оформленное, придуманное — не только искусное, но и искусственное в хорошем смысле этого слова; и потому в нем нет и не может быть места отражению душевной эмпирики»[8].


























