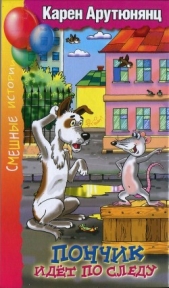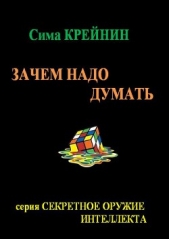ДАЙ ОГЛЯНУСЬ, или путешествия в сапогах-тихоходах. Повести.

ДАЙ ОГЛЯНУСЬ, или путешествия в сапогах-тихоходах. Повести. читать книгу онлайн
В книгу вошли три повести: «Дай оглянусь», «Дружище Лиана» и «Такая долгая война». Первые две - с элементами фантастики, свойственными манере письма автора, - носят автобиографический характер и включают ряд как бы самостоятельных новелл, объединенных фигурой главного героя.
В центре третьей повести - судьба женщины, нашей современницы, юность которой была опалена войной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Хлюп... Хлюп...— вода хлюпала на одном и том же месте. Ваганов успокоился и сел. Это прибой. Ленивый, мерный. Хлюпает под камнем. Как будто кто-то идет.
— А?
— Хлюп... Хлюп...
— Вода.— Напряжение упало, Ваганов обмяк, все прежнее ощущение ночи вернулось к нему.
Посидеть бы сейчас, глядя на мирное ночное небо, но нельзя, может быть ночная проверка, а тебя нет на месте. Ваганов встал, оттянул затвор, нацелив карабин в звезды, потом нажал на пусковой крючок и закрыл затвор.
Ночь не была уже одним живым существом, она разделилась на небо и море, на город, на батарею, где угадывались четыре орудия и знакомые по дню деревца, на окрестности, где изредка взлаивали собаки. Ваганов спустился по той же лестнице с бруствера и встал у стены каземата, прислонившись к ней спиной. Он зажег спичку и глянул на часы: с начала смены прошло всего 27 минут. Впереди было долгих полтора часа.
— Раз. Два. Три. Четыре. Пять...— начинает считать Ваганов. Если даже считать до шестидесяти, то пройдет всего лишь минута. А сколько минут в полутора часах? —90. 90 умножить на 60 это... 5400.— Шестнадцать. Семнадцать...
Ваганов задирает голову и смотрит на звезды, шевеля губами. Звезды голубые, они все время вздрагивают, Ваганов смотрит на них, пока не начинает ему казаться, что они звенят. И тонкий этот звон слышится все сильнее и заполняет голову Ваганова.
—...Двадцать восемь. Двадцать девять. Тридцать...
Вокруг все так же тихо, так же неподвижно — даже ветерок не пролетит, чтобы шелестнуть кустом.
Облака оставили небо, луна светит голо, ярко, она в центре неба; сейчас самая середина ночи, самая большая ее глубина.
И собаки уже молчат, и гул города стал глуше, и моря почему-то не слышно... Как крепко, должно быть, спят сейчас в казарме!
И сразу же Ваганов видит свою казарму: и синюю лампочку у ревуна, и свою пустую койку, и белеющую подушку...
Темнота неслышно подкрадывается к нему, затыкает его уши, тяжелая, наваливается на веки, на плечи, мягко пригибает голову, и та опускается все ниже...
И вместо подушки Ваганов видит страницу книги и читает строчку за строчкой какой-то странный текст—про какие-то крыши, с которых струится вода, про человека, который, не разбирая дороги, шлепает по лужам. И хотя эти «шлеп, шлеп!» на странице, Ваганов вздрагивает и открывает глаза.
— Шлеп! Шлеп!
— Стой, кто идет?!—в испуге кричит Ваганов и делает шаг от стены.
— Командир батареи!
Круг света, бежавший по дорожке, подбирается к Ваганову и вспрыгивает «а бушлат, зажигая пуговицы.
— Ну как, Ваганов, все в порядке? И, не дождавшись ответа:
— Не холодно?
— Никак нет, товарищ старший лейтенант!
Луч смазывает по подбородку и ударяет в стену каземата, оживляя надпись, оставшуюся с войны: «Наше дело правое, мы победим!»
— Ну, стойте.
Уходит. Свет фонарика собачонкой бежит впереди.
Еще пятнадцать минут прошло, осталось же больше часа. Больше часа, и Ваганов обратился к тому, что еще было с ним и над ним, кроме неба и ночи,— к последнему письму, полученному из дома.
Командир батареи, проверив посты, вернулся в часть другой, наверно, дорогой, часовой снова надолго один. Никто больше и ничто не помешает ему, не побеспокоит в этот самый глубокий сокровенный час ночи, луна светит только ему, даже сверчки примолкли... Ваганов шепчет ответ на письмо.
— «Я не люблю писать письма... Может, не умею. Напишу страницу, вижу — не то, и бросаю. У меня их знаешь сколько набралось, начал. Я, когда перечитываю, краснею. Там страшного ничего нет, ты не бойся, там я с тобой говорю, как, помнишь, в тот вечер? Предпоследний. Только больше говорю я — я ведь тогда не все сказал. Не все, понимаешь?
Мне тебя очень хочется видеть! Долго смотреть хочется на тебя. Долго, долго. Все рассмотреть — брови твои, и крапинки в глазах, и губы, и волосы. Я бы взял твою голову руками и все смотрел, смотрел бы на тебя...
Я бы тебе рассказывал, я бы говорил не умолкая— так много накопилось слов для тебя...
Я сейчас стою на посту. Ночь, скоро два часа. Море рядом. А я думаю о тебе, вспоминаю все — до единого вечера, до единой минуты. И последнюю — когда ты вспрыгнула на подножку поезда и мы впервые поцеловались...»
Остановись, диверсант, ползущий вверх по склону к Ваганову! Тебе с ним сегодня не справиться. И ты, шпион, только что стянувший с себя водолазный костюм и оглядывающий высокий берег, остановись! Тебе не пройти сегодня мимо Ваганова! Он охраняет сон своей любимой, чьи губы произносят во сне его имя. Он охраняет — здесь, у моря — свой город, свою юность, свою любовь.
Ваганов шепчет и шепчет строки письма, прекрасного, как Песнь песней, легко произнося слова, так и не произнесенные там, на вечерней улице, на памятной скамейке, и, может быть, даже звезды слышат сегодня эти сигналы, идущие с земли, и понимают их, и узнают по ним, что землю населяют мыслящие и, главное, любящие существа.
Снова бегут по небу косматые облака с рыжими дымными краями, бегут откуда-то толпы беженцев, безостановочно, спешно, не обращая внимания на луну, одиноко и растерянно стоящую на дороге, бегут, вселяя тревогу в сердце Ваганова, тревогу и ответственность. Он один этой ночью стоит на посту, один вслушивается в далекий шелест облаков, занявших все небо. Он снова оттянул затвор и готов поднять свою роту по тревоге, он даже хотел бы этого...
Но молчат кусты, молчит сухая трава, на которой днем белыми мелкими цветами висят крохотные кувшинчики улиток.
Днем... а сколько еще осталось?
22 минуты осталось Ваганову стоять на посту, 22 круга секундной стрелки, 1320 шагов по скрипучему гравию, пока не увидит в темноте прыгающий свет фонарика, пока не услышит шума шагов и не крикнет:
— Стой, кто идет?
И через каких-нибудь десять минут после этого он будет лежать на нарах, замелькают в его закрытых глазах то косматые облака, то прямоугольник письма на койке, то высокая ратуша с часами наверху, ярко освещенная солнцем, потом он увидит страницу своего письма и будет читать строку за строкой, пока страницу не зальет темнота...
А без пятнадцати шесть его снова толкнут в плечо, он вырвется из небытия и услышит голос начкара:
— Вставай! Твоя смена.
И, выйдя на свой пост, зажмурится от солнца и снова увидит старую стену каземата у четвертого орудия с облупившейся надписью коричневой краской: «Наше дело правое, мы победим!», кусты, сбросившие темные свои одежды, а когда поднимется на бруствер, его подхватит свежий и теплый утренний ветер и — шаг — откроется широкий размах моря в искрах солнца, синего вдали и зеленого у их батареи, словно только что проснувшегося, уже покрытого бесчисленным стадом волн, бегущих, спешащих к берегу.
Ваганов вспомнит свое ночное письмо, и его бросит в жар, он застесняется письма и даст себе слово тут же, в караулке, написать другое...
Небо над батареей снова высокое, чистое; проснулась казарма и там уже разносится команда старшины; город вдали за бухтой по-лебединому бел, свеж, словно только что поднялся из моря; смешными кажутся Ваганову его ночные страхи и торжественность мыслей... самое время сказать, что утро-то вечера мудренее.
Так ли? Так ли?
Когда Ваганов приехал в свой город в первый отпуск, его любимой не было там, на какое-то время она уехала. Не встретится он с ней и когда, отслужив положенное, вернется домой в «долгосрочный отпуск», как официально называется в армии демобилизация; дембель (дмб). И встреча с ней, так часто и ясно представляемая, сделается навсегда освещенным островком, какой легко отыскивается на карте памяти.
Может, получи она хоть одно из ночных писем Ваганова, не уехала бы из этого города, дождалась бы... кто знает?
* * *
В один из давних-давних вечеров — в то время мне, студенту, еще не нужны были сапоги-тихоходы— я подумал (мне показалось, открыл), что шагами дано измерить то, что не меряется ни метрами, ни часами. Открытие было сформулировано так: