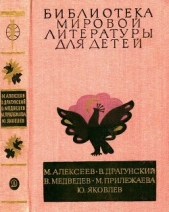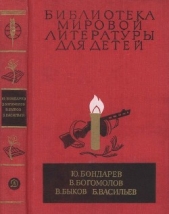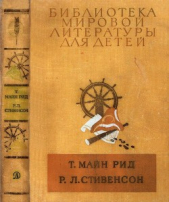Библиотека мировой литературы для детей, т. 30, кн. 4

Библиотека мировой литературы для детей, т. 30, кн. 4 читать книгу онлайн
В книгу входят повести и рассказы советских писателей: «Сто рассказов из русской истории» С. Алексеева, «Жизнь Эрнста Шаталова» В. Амлинского, «Навеки — девятнадцатилетние» Г. Бакланова, «Я вижу солнце» Н. Думбадзе, «Там, вдали, за рекой» Ю. Коринца.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я — здесь.
— Здесь?
— Здесь.
И оба в этот момент почувствовали тишину палаты.
— Пошли, ротный, покурим, — сказал Китенев громко. Вместе со Старыхом пошли они в коридор. И начхоз удалился, для порядка еще раз оглядев палату.
Шелестел газетой Атраковский на своей койке, заложив руку за голову. Оголившийся белый худой локоть его с опавшими синими венами, как неживой, торчал вверх.
Олег протирал стекла очков полой халата, слепо мигал будто припухшими глазами. Смутно вспоминалось Третьякову — мать писала ему на фронт или Лялька писала, — что призвали Олега вместе с ребятами из их класса, с Карповым Лешкой, с братьями Елисеевыми, Борисом и Никитой, куда-то их погнали уже обмундированных, а потом Олег вернулся. И что-то угрожало ему. Но будто бы вмешался отец, известный в их городе врач-гинеколог, и Олега по зрению признали негодным к строевой службе. В школе он действительно видел плохо.
— Знаешь, кого я здесь встретил на базаре? — Олег надел очки, взгляд за стеклами прояснился. — Мать Сони Батуриной, помнишь ее? Она еще голову тебе бинтовала на уроках военного дела. По-моему, Соня была в тебя немножко влюблена. Она ведь убита, ты не знал?
— Разве она была в армии?
— Она сама пошла. Такой тогда был подъем в первые дни!
— Так я ее в августе встретил. Какие ж первые дни?
— А ты не путаешь?
Нет, он не путал. Он встретил Соню Батурину в самом конце августа: уже астры продавали. Соня сказала: «Смотри, астры!
Скоро в школу. Только уже не нам. Какие синие!» Он купил ей букет. Как раз у Петровского спуска. Потом они стояли на мосту. Соня спиной оперлась о перила, распушивала астры, смотрела на них. Под мостом текла мутная от глины, быстрая вода, и две их тени на мосту, казалось, плывут, плывут навстречу. «А ведь мне еще никто никогда не дарил цветов, — сказала Соня. — Ты — первый». И посмотрела на него, держа букет у подбородка. Он поразился еще, какие синие у нее глаза. И весь подбородок, и кончик носа она выпачкала желтой пыльцой. Он хотел достать платок, но платок был грязный, и рукой осторожно стирал пыльцу, а Соня смотрела на него. Сказала вдруг: «Интересно, каким ты будешь после войны, если встретимся?»
Значит, она тогда уже знала, что уходит на фронт, но не сказала ему. Потому что он, парень, был еще не в армии.
— Она сама подошла ко мне на базаре, а так бы я ее, наверное, не узнал, — рассказывал Олег. — У нее вот эта часть лица… Нет, вот эта… Подожди, я сейчас вспомню. — Он пересел на кровати другим боком к окну, подумал. — Да, вот эта. Она отсюда подошла. Вся вот эта часть лица у нее перекошена, и глаз открыт, как мертвый. Это парез, паралич лицевого нерва. Я потом был у нее, она мне читала Сонины письма. Очень тяжело… А помнишь, как у меня на галерее мы играли в солдатики? У тебя была японская армия, а у меня были венгерские гусары. Помнишь, какие красивые были у меня венгерские гусары?
Из-за стекол очков с широкого мужского лица смотрели на Третьякова детские глаза, в которых время остановилось. Они смотрели на него из той жизни, когда все они еще были бессмертны. Умирали взрослые, умирали старые люди, а они были бессмертны.
В коридоре, пожимая огромную ладонь Олега, Третьяков сказал: «Приходи еще», а сам очень надеялся, что больше Олег не придет.
Старых сразу же спросил в палате:
— Кореш?
— В школе вместе учились. Вот разыскал меня.
— Большой человек. — Старых радостно ощерился. — Нужен родине в тылу.
— Что ты знаешь? У него зрение…
— Плохое!
— Он ночью вообще, если хочешь знать…
— Фронт с тылом перепутал! — под смех палаты закончил за него Старых. — Сослепу! Это не хуже того, летом в сорок втором везли нас в санлетучке. Как раз самое он на Сталинград пер… Какая же это станция, вот не вспомню… Ну, шут с ней. Тут эшелон с оборудованием на путях, тут бабы, детишки, кого взяли, кого брать не хотят, слезы, визг, писк. Набились к нам в товарные вагоны. Не положено, а не оставлять же. Тут гражданин вот такой солидный вперся с чемоданами. Его выпихивать. «Товарищи, товарищи, что вы делаете? Я нужен нам!»
— Врешь! — хохотал Китенев. — Ведь врешь!
— Я нужен нам!
Глава XIX
Для тяжелораненых самые трудные часы ночью, для выздоравливающих самое тягостное время — вечер. Вечером в палате сумеречный желтый свет электричества, хлопья теней по углам, и все, кого отделила война, — и мертвые и живые — все они в этот час с тобой.
Этой ночью снился ему отец. Смотрел на него издали, непохожий на себя, поникший, стриженный наголо, старый, каким он не видел отца ни разу в жизни. И в то же время он знал, что этот жалкий человек со шрамом через всю голову — это его отец.
Он ведь даже не простился с ним. Когда это случилось, он был в пионерском лагере. В воскресенье, как обычно, ко всем приехали родители, к нему почему-то не приехал никто. Потом среди недели приехала мать. Была она как после болезни, и всякий раз, когда смотрела на него, он видел в глазах у нее близкие слезы. Она сказала, что отец в командировке, что уехал надолго. И только когда смена в лагере кончилась, он вернулся домой, увидел опечатанную дверь во вторую комнату, мать рассказала, как это было…
Никогда прежде он так не любил мать, как в эти дни, когда несчастье обрушилось на них. И он решил для себя твердо: кончит седьмой класс, пойдет работать. Отец бы тоже так поступил и так бы сказал ему. Лялька маленькая, пусть учится, а он — старший. Но потом появился Безайц. Этого он не мог матери простить: ни за отца, ни за себя.
Но если он воюет честно и на фронт пошел сам, когда их год еще не призывали, если он все прошел, как положено, так ведь это отец его воспитал. Мысленно он представлял не раз, как вернется с войны, придет и скажет, и судьба отца изменится. Он не знал толком, куда он придет, как все будет, но верил: кончится война, он придет с фронта, и разберутся, поймут, что произошла страшная ошибка, отец его ни в чем не виноват. Даже с матерью он не говорил об этом, а с Атраковским временами хотелось поговорить. Они как-то стояли у окна вблизи операционной, и он спросил, за что у Атраковского этот орден. Тот сверху глянул себе на рубашку: «Это мой пропуск в жизнь». И усмехнулся.
Атраковский ходит сейчас по палате, думает о чем-то, думает. И Старых думает над шахматной доской. С кровати, из сумерек, Третьякову видно, как он сидит, подперев голову, уминает пальцами розовый шрам на лбу.
— Конем, конем походи, старшой, — громко советует повар. А сам, весь перекривляясь, подмигивает на слепого Ройзмана, что-то другое показывает на доске. Старых вскочил белый:
— А вот костылем сейчас в лоб похожу! — И на всех: — А ну, раздвинься! Обступили — дыхнуть нечем.
— И чего намахивается? — пристыженно оправдывался повар. — Человеку добра желают, в воду пихают, а он как оглашенный на берег лезет…
Повар каждый вечер здесь, в их офицерской палате: стоит смотрит, жаждет сыграть. Он разъевшийся, выбритое лицо блестит, как безволосое, рыхлая грудь необъятна. Но это не от вольных хлебов. У него ранение, в котором стыдно признаваться. Редкий не засмеется, узнав, куда он ранен, повар уже привык к этому, не обижается. Он как раз перед самой войной женился, руки у него целы, ноги целы, но приехал домой, жена поплакала-поплакала и честно сказала, что жить с ним не сможет. И он вернулся обратно в этот госпиталь вольнонаемным, по вечерам приходит в их палату, переживает: «Пешкой походи…» Как-то сказал он: «Пока война — ничего. А кончится война, разъедетесь вы все…»
И впервые тогда Третьяков поразился мысли: человек боится, что кончится война. Пока они здесь, он как все, будто и для него ничего не кончилось. Не дай бог, чтобы так ранило, пусть лучше сразу убьет. И все равно у Третьякова к нему почему-то гадливое чувство.
— Старшой, дай одну сгоняю, — просит повар и суетится, чтобы пустили к доске.
— Обождешь!
Старых вновь расставляет шахматы, пристукивая фигурами по доске.