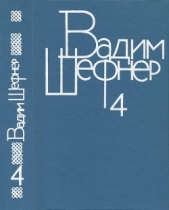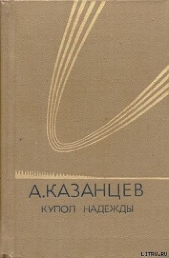Талисман

Талисман читать книгу онлайн
Повесть о становлении характера подростка в трудное время Великой Отечественной войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Во сколько пойдем? — спрашиваю я Таньку. — Надо бы пораньше, пока все не расхватали.
— Татьяна! Где ты, Татьяна?
Стукнула дверь комнаты, прострочили шаги по коридорчику. Бабка, как гусыня, быстро перевалила себя со ступеньки на ступеньку и остановилась у стола — руки в боки.
— Что ж ты, матушка моя, прохлаждаешься? С каких пор лясы точишь? Миндаль осыпается, а тебе бара-бир.
— Шо вы дома, как на базаре, бабуся? — Вовкина мать поморщилась. — Уж девчонке и посидеть нельзя. Было бы с чего расстраиваться. Гляньте, сколько у вас помощников.
— Есть они помощники, а не работать, — проворчала бабка. И распорядилась: — Татьяна, неси скалку и таз!
И мы стали собирать миндаль.
По очереди запускали в дерево скалку, и, если удар был меткий, с веток дождем сыпались миндалины. Они светлые, в татуировке и каждая в халатике нараспашку — из высохшей кожуры. Раздеваются миндалины, ударясь о землю.
Лучшей метальщицей, как ни странно, оказалась бабка. Вот бы кого нам играть в лапту!
Охая от уколов остроносых миндалин, мы на коленях ползали под деревом и в бешеном темпе, сталкиваясь руками, собирали миндалины в таз. Под конец я уже ничего не соображала, с воплем кидалась под колющий дождь, шлепалась и, обессилевая от смеха, хватала и хватала миндалины.
Я даже и не поняла, что случилось.
Взорвалось что-то близко. У меня от звона лопнула голова. Стало темно, как во время учебной тревоги. Только сирены почему-то молчали. Но тут заорала бабка:
— Убила, батюшки, убила!
В меня вцепились и начали поднимать. Я шарила руками, ища, на что опереться, и нащупала гладкое, круглое. Так и поднялась, держа скалку. Перед носом у меня прыгали бабкины губы.
— Бба-тюшки светы! Ббатюш-ки светы! — срывались с них одни и те же слова. Пальцы ее шныряли в моих волосах.
Меня вдруг дернуло от боли.
— Пустите, я сама, — крадучись, я забиралась в волосы.
— Слава богу, крови нет! Нету крови, Линуша, не бойся.
— Шишка тут у меня… — Пальцы удивленно ощупывали ее, огромную и мягкую. — Больно, не притронешься, — пожаловалась я Таньке.
— Ложку скорее! — закричала бабка.
Вовка взвился на террасу, минуя ступени. И тут же вернулся с ложкой в кулаке.
Нащупав шишку (я загордилась, морщась), бабка приложила к ней холодную ложку. Вовка смотрел на меня странно посветлевшими глазами, а над его головой стыли Танькины французские гляделки.
— Ну чего вы таращитесь? — разозлилась я (от ложки стало больнее). — Шишек не получали? Могу устроить по блату.
Держа голову набок, я неловко замахнулась скалкой.
Они, чудаки, просияли.
… Последние миндалины мы собирали в сумерках, ощупью находя их в толстом слое кожуры. В нашем дворе заревела Люська. Я всегда слышу, когда она ревет, и пугаюсь, хотя для слез ей довольно пустяка. Я заторопилась домой. Бабка насыпала мне кулек миндаля, целое состояние по базарным ценам, и попросила:
— Ты уж матери не говори, что это я, старая, отчудила. А до свадьбы тебе далеко, заживет.
— Мы ее и с бульбой возьмем, правда, сына? — и Мария Ефимовна лукаво глянула на Вовку.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
— Собирайся, — сказала мне дома мама. — Завтра в колхозе «Янги-Юль» той.
Я запрыгала, придерживая ладонью шишку. Обожаю ходить с мамой в этнографические походы!
— И я на той… — заныла Люська.
— Нос не дорос по свадьбам бегать, — объяснила я ей. Хорошо все-таки быть старшей!
… Я люблю виляние улочек старого города, вкусно-серую однотонность всего вокруг: нежно-лёссовой пыли под ногами, дувалов, глухих стен домов, прячущих от чужого глаза застенчивые лица. Здесь даже вода не нарушает общей окраски и тишины. Она тяжелая от лёссовых частиц, и в сытом плеске ее нет звонкости. Вдоль арыков деревья. Одноногие карагачи тянут корнями витаминную воду и выдувают аккуратные шары крон. Рядом с ними неряхи ивы; в лохмах у них запутались галочьи гнезда.
В серой ленте дувалов темнеют редкие калитки. Толкни скрипучую створку — и глазам откроется другой мир. Ничего нет уютнее внутренних узбекских двориков! Их земля прибита поливкой и вылизана до пылинки мягким веником. Поднятый над двориком виноградник укрощает самые отвесные полуденные лучи. Зеленая прохлада ложится на все вокруг: на глиняную суфу, застеленную жесткими паласами, на лица и темные руки женщин, готовящих еду или привычно занятых каким-нибудь нарядным рукоделием.
Хорошо сидеть на суфе, за дастарханом. Слушать и не слушать мамины разговоры с хозяевами, гадать о сказанном по знакомым словам или просто слушать привычную музыку узбекской речи и протягивать руку к дастархану то за куском лепешки, то за кистью винограда, сизой от пыльцы. Вдоль арыка, вприпрыжку бегущего через сад, заросли золотого шара, коренастые кустики райхона — пару душистых веточек за ухо мы получим вместе с гостинцами, когда поднимемся уходить. С зеленого, уснувшего в жарком безветрии потолка свисают тяжелые кисти «дамских пальчиков». На них гудящими бомбардировщиками пикируют, заходя с разных сторон, коричневые шмели.
Каждый раз, когда мы с мамой стучимся в старую калитку и входим во дворик, бормоча приветствия в ответ на поклоны и вопросы хозяев, а потом вот так сидим на суфе за дастарханом, во мне словно просыпается что-то. Давнее, забытое. И я начинаю придумывать, что была у меня когда-то другая жизнь. Здесь, вот под этой крышей, я родилась — а вовсе не в городском роддоме номер два — и по этой улочке бегала, мотая двадцатью своими косичками, а мимо, пыля, текло стадо, сворачивали к своим дворам бородатые сообразительные козы и шарахались из конца в конец улочки, соря катыхами и жалобно крича, заблудившиеся глупые бараны. И так же пахло дымом и молоком и далеко разносился тягучий зов: «Апа-ю-ю! Уилга бори-и-инг!»
Но нет, мама зовет меня не так — коротко и требовательно: «Ли-на! До-мой!»
… Нынешний путь увел нас за городскую черту, к полям. Мы идем босиком, по щиколотку в каленой пыли. Мимо кукурузы. Мимо спелого клевера второго урожая. Мимо непривычных для глаза лопушистых табаков, идущих на солдатскую махорку. Мимо прополотой, буйно рванувшейся в рост светло-зеленой ботвы сахарной свеклы. Что бы мы стали делать, если б за годы войны не научились ее выращивать? Теперь у нас собственный сахар — желтый и влажный, а главное, черная сахарная патока. Да и так просто нет ничего вкуснее зимой, чем вынутые мамой из казана теплые свекольные паренки…
Но больше всего на полях хлопка.
Зеленые его полосы начинались от горизонта, из одной точки, и оттуда же изливалась в междурядья перламутровая вода.
На кустах еще белели цветы, похожие на мальву. Я раздвинула пыльные ветки ближнего от дороги куста. Из черноватой гущины остриями пик в меня нацелились коробочки. Я сорвала одну, зеленую, лаковую, расцепила створки: внутри сидело четыре белых чесночных зубчика.
Отцветут на хлопчатнике одни цветы, а там протиснутся из коробочек и пойдут пушиться новые… «Лепестки» такого цветка забираешь в кончики пальцев и пальцами ощущаешь звук — словно бы вздох облегчения, с которым коробочка отдает выпестованный и неподвластный ей больше груз…
Придет срок, и все мы — я вместе со школой, и мамин музей от директора до вахтерши, и бабушкины детдомовцы с воспитателями — будем каждое воскресенье уезжать на хлопок.
Будем мчаться в кузове грузовика мимо жестяно звенящих крон тутовников и карагачей, гремя залихватской песней:
Протрубили трубачи тревогу,
Всем по форме к бою снаряжен,
Собирался в дальнюю доро-о-огу
Комсомольский сводный батальон…
Будем поначалу таскать с белых полей к весам тяжелые фартуки спелого хлопка, потом скучно обирать застрявшие ощипки, потом — по холоду и под дождем — сражаться с колючими нераскрывшимися коробочками.
Сражаться за каждый не отданный еще грамм хлопка…