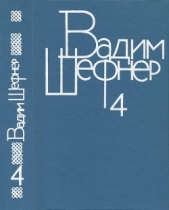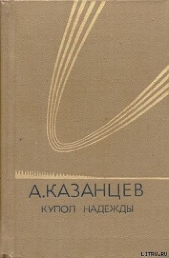Талисман

Талисман читать книгу онлайн
Повесть о становлении характера подростка в трудное время Великой Отечественной войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Балахана у нас большая — комната на втором этаже. Есть и обстановка — раскладушка, пронзительно заскрипевшая под Маней, столик на трех ногах и табуретка, больно щиплющая зад.
Подскочив, Маня пнула табуретку в угол. Зло спросила:
— Шо ж вы пожмотились, не вставили стекла?
Она вцепилась в переплет и трясла, словно хотела высадить раму.
Оконные рамы на балахане с трех сторон. А стекол нет. Без них даже лучше. Ранней весной здесь, на сквознячке, любит спать и работать отец.
— Это шо за мьячики? — удивляется Маня.
Она распахивает боковую раму и спрыгивает на кухонную крышу.
— Кизяки. Ох и горят!
Я вылезаю следом и переворачиваю кизяки вверх непросохшим боком, Маня помогает мне.
— А навоз откуда? Коровы ж у вас нема?
— Собираем. Ходим по улицам и собираем — конский и ишачиный. А на полянке коров пасут.
— От то да! — восхищается Маня. — Надо ж, сколько их у тебя понаделано.
— Это новые. У меня в сарае их полторы тысячи. А у Таньки тысяча шестьсот.
Манины конопушки стали под цвет жженого кирпича. Подумаешь, полторы тысячи. Она наделает мильен! Угольную пыль им уже выдали. А сейчас надо идти за навозом. Она мигом — только слетает за ведром, одна нога здесь, другая там!
Но мне нужно было бежать к бабушке. А прежде хитренько отделаться от Люськи.
Она уже кончила разорять кукольный дом и теперь хныкала под лестницей, держа за малиновый подол куклу Наташу и пытаясь влезть на вторую ступеньку (первую сняли специально из-за нее).
— Ли-ин, я к тебе…
Ми с Маней скатились с лестницы и, не слушая Люськиных воплей, пустились вокруг дома, а там нырнули к калитке.
Все! Свободны!
До угла бежали вперегонки, а вырвавшись из-за него, разом остановились.
За углом, вокруг старой акации, толпился народ.
У меня екнуло от догадки сердце.
— Бежим скорее! Ее рубят!
… В незапамятные времена кто-то засадил улицы нашего города белой акацией. Когда весной деревья зацветают, их мелколистые кроны тучнеют, тяжело разбухают белыми гроздьями. А городской воздух, ничем, кроме пыли, не примечательный, становится свежим и сладким. Будто в руках у тебя букет и ты так и ходишь, уткнув в него лицо. И дышишь, дышишь… А еще жуешь, пока не объешься приторными цветами, похожими на львиный зев.
Акация, что росла возле углового двора, славилась цветами особенной сладости.
Но теперь ее выдали на дрова какой-то чужой тетке.
Верно, акация была старая, и одна ветка у нее засохла, но дерево жило себе, давало летом тень, а весной свои медовые цветы. И мне даже думать не хотелось про плешь, которая теперь появится. Еще одна пыльная плешь на такой зеленой до войны улице… Но тетка с ордером на живую акацию была не с нашей улицы. Ей плевать было на то, что здесь останется. Без ума от радости, что зимой теперь будет с дровами, она лезла к пильщикам под пилу, толкала плечом ствол или, раскинув руки, как милиционер, раздвигала сбежавшихся ребят.
Пильщики не обращали на нее внимания. Пилу заедало, и они с остервенением рвали ее каждый в свою сторону. Мне показалось: им тошно пилить живое дерево.
Заскрипело, застонало в акации. Прощально махнув легкой кроной и чиркнув по небу негнущейся веткой, дерево рухнуло на булыжник.
— Пол-лундра! — завопила среди общего крика Маня и потащила меня через арык, в самую пыль. Та кинулась садиться на голову и плечи. Стали видны сучья, далеко разлетевшиеся по мостовой.
— Налетай, подешевело! — скомандовала Маня.
Нагибаясь и перебегая, она подбирала хворост.
Я тоже схватила несколько обломков: акация-то была наша!
— Не трожь! Ордер заимей, тогда хапай! — метнулась за нами тетка.
Мы удирали, крепко прижав добычу. Тетка не погналась, переключилась на кого-то еще. Маня шмыгнула к себе, в угловой двор. Я, отбежав, остановилась, сплевывала пыль, хрустящую на зубах.
Пильщики уже распиливали ствол.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Так, с дровами под мышкой, я и пошла к бабушке.
Собственно, у нас с Люськой их две. Армянскую, Маленькую бабушку мы видим редко. Она приходит разряженная по-старинному — в сине-красных одеждах, в черном платке, со свисающими на лоб серебряными монетами.
Пальцами, искореженными ревматизмом, она больно хватает меня за шею и, так и не дотянувшись до щеки запавшим ртом, быстро чмокает воздух, ласково приговаривая: «Кум матаханнум, кум матаханнум». По-русски Маленькая бабушка не говорит. Они бойко тараторят с мамой — мама у нас полиглот, — а мне остается догадываться, о чем речь, по отдельным немыслимо перекроенным русским словам, которые произносит бабушка из уважения к нашему с Люськой присутствию. Люська и не пытается понять бабушку. Забирается в колени и, утонув в широченных юбках, позванивает ее монистами.
Я тоже рассматриваю монеты. Сколько денег пропадает зря! Были бы монеты теперешние и без дырочек, хватило бы, наверное, на буханку. Ну, на полбуханки…
Большая бабушка живет недалеко от нас, в собственном доме. Много лет она учит музыке детдомовских ребят, а теперь дает и частные уроки. Но все остальное время бабушка занимается нашим воспитанием. Оно, как земля у древних, покоится у нее на трех китах: режим, режим и еще раз режим. Аппетиты у бабушкиных китов большие, и они проглатывают все мое время. Да еще обдают фонтанами ледяных строгостей. Зато Большая бабушка обшивает нас, начиная с шапок и кончая туфлями. Сейчас она шьет мне из старого отцовского пальто летный китель и пилотку.
Еще до войны, когда я окончательно решила, что буду летчицей, отец подарил мне голубые петлицы с эмблемами, большую звезду для пилотки и нашивки на рукава — серебряные крылья. Теперь я не уверена, что буду летчицей. Может, стану археологом, как дядя Ваня. Но пока война, я решила носить форму, а не девчачье пальто!
… Бабушка занималась в своей комнате с Сережей — это тот самый Сережа. Она считает, что у него абсолютный слух. Не знаю, какой у него слух, но всем известно, что он лучший ученик нашей школы.
В проходной комнате у бабушки, где живут Сережа с матерью, висит карта военных действий — во всю стену. Сережа переставляет на ней флажки. Послушает сводку и идет переставлять. Тогда, когда было тяжко, переставлял, и теперь, когда мы наступаем. Я открываю дверь и прокрадываюсь к карте. Все точно, вот они уже где, флажки: Орел! Карачев! Харьков!
Но самый большой флажок Сережа сделал для своего Ленинграда. Он воткнул его в кружок на карте, когда в Ленинграде началась блокада. И потом, когда блокаду, наконец, прорвали, флажок так и остался на своем месте. Но теперь от него уходят на запад и на север новые флажки…
А Сережа по-прежнему живет у бабушки: его маму, инженера, не может отпустить в Ленинград завод.
Я рада, что им нельзя уехать. Одного никак не пойму: знакомы мы с Сережей или нет? Здороваемся, конечно. Случается, и поговорим, когда он что-нибудь мастерит на террасе, за большим столом.
«Вам много задают? У вас была уже контрольная по алгебре?» Вот и весь разговор.
Не знаю почему, но у меня язык делается деревянным, хоть плачь! А смотреть на Сережу я люблю. Иду через комнату, он сидит за уроками или читает, а я на него смотрю украдкой.
Прошлой зимой, готовя для Таньки новогоднее пожелание, я откопала у бабушки старинную открытку с ангелом в голубом платье. Так вот у Сережи глаза этого ангела и светлые, из кольца в кольцо волосы. Про таких, наверное, и говорят: «Красив, как херувим».
Я послушала через стенку, как он наяривает гаммы. Бабушки будто там и нет. Опять поставит ему пятерку с плюсом. На прочих уроках бабушку всегда слышно. «Си… ля… ми… ми», — плачущим голосом поет бабушка и сильно долбит нужную клавишу.
Я вернулась на террасу. Она широкая, как улица, и на нее, как на улицу, выходят все окна и двери. В доме темновато, хотя терраса застеклена от потолка до низкого деревянного барьера (одна половина стеклянной стены свободно ходит в его пазах).