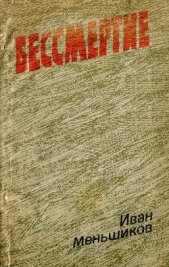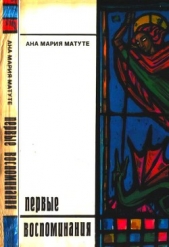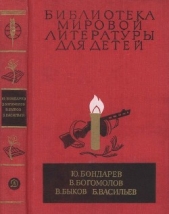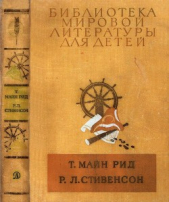Сто рассказов из русской истории. Жизнь Эрнста Шаталова. Навеки — девятнадцатилетние. Я вижу солнце.

Сто рассказов из русской истории. Жизнь Эрнста Шаталова. Навеки — девятнадцатилетние. Я вижу солнце. читать книгу онлайн
В книгу входят повести и рассказы советских писателей: «Сто рассказов из русской истории» С. Алексеева, «Жизнь Эрнста Шаталова» В. Амлинского, «Навеки — девятнадцатилетние» Г. Бакланова, «Я вижу солнце» Н. Думбадзе, «Там, вдали, за рекой» Ю. Коринца.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В палате постукивали костяшки домино, забивали «козла» на обеденном столе. Шаркал туфлями по полу, натыкался на койки слепой капитан Ройзман. Девочка говорила тихо, Третьяков не все разбирал:
— Простить себе не могу… не понимала совершенно… И страшно нервничает. «Ты что забыла?» Тут только поняла, ведь у него всего полчаса осталось… Курил одну папиросу за другой… Сказать хотел… Прибегаю, все наши давно на перроне…
Третьякову показалось на слух, что она повернулась в его сторону.
— Он спит, — сказал капитан. — Ему вечером делали операцию.
И обидно вдруг стало, что она даже не спросила ничего, что он для нее только помеха в разговоре.
Кровать резко толкнуло: это Ройзман наткнулся боком. Опять зашаркали шаги, отдаляясь. Она заговорила тише:
— А потом, когда раздались свисток и гудок, мать бросилась целовать его. Как она его целовала! В шею, в затылок, в голову… Я только тогда почувствовала, только тогда поняла, что это такое. Мне было приятно, что он пришел, а у меня волосы распущены по плечам. А он умирать ехал.
Третьякову хотелось увидеть ее лицо, но видел косы на халате, большие серые валенки под табуретом. Вдруг вспомнил, где он эти валенки видел однажды. Их санитарный поезд стоял у перрона, лежачих выносили на носилках, ходячих под руку вел санитар. И вот, когда сводили его со ступенек, из-под вагона вылезли двое: девочка, вся замотанная платком — мороз был сильный, — и парнишка в черной кожаной ушанке. Они оглядывались, не видит ли их кто, — оба радостные, удачливые, и полное ведро чадящего непрогорелого угля было при них: на путях собирали. И он заметил валенки солдатские на ней, точно такие, огромные. Может быть, это она и была?
— Ребята, — позвал Ройзман. Подняв руку — серый фланелевый рукав халата опал вниз, — он ощупывал край окна. — Это окно, да?
Перестали стучать костяшками домино. Темный против света, Ройзман трогал стекло, трогал раму. Глаза его, ничуть нигде не поврежденные, ясные и незрячие, растерянно оглядывали палату, глядели мимо всех.
— Свет отличаю. Вот… Вот он…
И дрожащей рукой ловил свет в стекле.
Глава XII
Из коридора вблизи перевязочной, где холодом веяло от стекол, были видны вдаль железнодорожные пути, вокзал, белые от мороза окна. Когда-то в простоте душевной он думал, глядя на вокзальные окна, огромные, как ворота, что через них и вышел ночью погулять тот паровоз из детского стишка: «Дверь толкнул стальною грудью, вышел, а кругом безлюдье, даже стрелочник заснул, пододвинув к печке стул…»
Было ему тогда года четыре, и отец еще был с ними. Отец сказал ему не спать, стеречь вещи, а сам вместе с матерью ушел куда-то. И он сидел на чемодане среди спавших вповалку людей, и представлялось ему, как задремал стрелочник в углу, у печки, как паровоз толкнул окно стальной грудью…
Вернулся отец, взял вещи, взял его за руку, и они пришли в большой зал. Все здесь сверкало при электрическом свете, множество людей весело разговаривали за накрытыми столами, папиросный дым подымался к потолку, и среди этого шума и праздника сидела мама, одна за накрытым белой скатертью столом, ждала их. Все было невиданное, не такое, как дома. Впервые они обедали среди ночи, и обед подавала не мама, а пришел человек с полотенцем на руке, отец говорил ему, он все записывал и был очень доволен. Поразило, как быстро здесь готовят. Мама, бывало, полдня стоит у примуса, а этот человек ушел и сразу все приготовил и принес.
Потом они ехали на телеге, и близко над лицом качались звезды. И мир был беспределен. Что — космос, иные миры!.. Беспределен только один мир — детство. И жили в этом мире бессмертные люди: он, мама, отец. А Ляльки тогда еще не было на свете.
Когда вот так метет и мороз, он всякий раз об отце думает. Последнюю посылку мать отправляла отцу перед самой войной, а последнее письмо от отца, оттуда, было еще раньше.
То, что у матери есть муж, когда отец — там, что вообще кто-то, кроме отца, может быть ее мужем, этого он не мог ей простить. И не мог видеть, как она заботится о Безайце, как временами смотрит на него. Бессознательно он отыскивал в ее муже все самое неприятное и никогда не называл его: «Вас к телефону… Вам там письмо…» Но чаще действовал через Ляльку: «Его там спрашивают, скажи ему…»
Лялька, маленькая дурочка, она и к Бе зайцу привязалась, она и отца помнила. Однажды он видел, как она крошками печенья кормила фотографию отца: сидит на полу за кроватью, шепчет что-то и крошки эти подносит к фотографии, к губам.
Из них троих он один оставил себе фамилию отца: Третьяков. и все отцовские фотографии, даже те, на которых мать рядом с отцом, выкрал у нее. Все они теперь — и Лялькины письма к нему в училище, и материны письма, — все это вместе с полевой сумкой осталось на огневой позиции батареи в фургоне старшины. Он еще подумал, когда его увозили: «Но я же вернусь в полк…» Как будто на войне можно загадывать вперед.
По коридору от окна к окну переходил хромой санитар. Постоит, примерится, вынет гвоздик из-под усов, потихоньку постукивая, вобьет в подоконник сбоку. Опять посмотрит, постоит — и подвесит на гвоздь бутылку. Потом, уминая негнущимися пальцами, долго прокладывает по подоконнику фитиль из стиранного бинта, чтобы вода, натаявшая со стёкол, текла не на пол, а по фитилю сбегала в бутылку. Он свое отвоевал, ему этой тихой работы в тепле теперь до конца войны хватит.
Когда-то мама вот так зимой подвешивала бутылки к подоконникам. Утрами стекла высоко обмерзали, бывало, он нагреет в ладонях большой медный пятак, впаяет в лед. Нагреет еще раз, притиснет: орел — решка, орел — решка. И тают на солнце его ледяные пятаки, стекают со стекол. Исчезнувший мир. Все довоенное сейчас как исчезнувший мир.
Недавно лежал он в палате и вспомнилось: осень, он сидит в классе у окна, смотрит со второго этажа на улицу. Там узкоколейка к маслозаводу, а рядом с насыпью — огромная куча подсолнуховых семечек. На ней лежат парни и девчата в стеганых ватниках, греются, подставив лица холодному солнцу. А машинист паровика в окне будки, как в раме, смотрит на них, проезжая мимо. Потянул за веревку, белый пар рванулся из свистка. и словно разбуженные, стали перекатываться друг по другу парни и девчата, обхватываясь ватными рукавами и смеясь… Все это было в исчезнувшем мире. Может быть, никого из них сейчас нет в живых: ни парней тех, ни машиниста, который проезжал мимо и смотрел.
Из дверей вокзала на снежный перрон повалил вдруг народ, все закутанные, обвязанные до глаз. Мороз сильный, все серо: и воздух и снег серый. Только намерзший на стекла лед просвечивал краснинкой. Не знать времени, не догадаешься, восходит солнце или садится: растекшееся, оно светило из-за серой мглы, не слепило, светило без лучей.
Весь в пару надвинулся к перрону поезд. Обындевелые крыши вагонов, натеки льда с крыш, белые слепые окна. И словно это он нанес с собой ветер, помело с крыши вокзала, закружило. В снежном вихре, в пару метались люди от дверей к дверям, бежали вдоль состава. Каждый раз вот так бегают с вещами и детишками, а везде все закрыто, ни в один вагон не пускают.
Санитар, стоявший рядом, тоже смотрел. Осторожно выплюнул гвозди в горсть:
— Вот бы Гитлера сюда этого! Сам-то он в тепле сидит. А народу такие мучения принимать… Да с детишками…
И зябко ежился, будто и его тут мороз пронял. Глупым показался Третьякову этот разговор. Срывая на санитаре зло, потому что ему тоже было жаль метавшихся по морозу баб, которых гнали от поезда, сказал:
— Что ж, по-твоему, захотел какой-то Гитлер — и война началась? Захотел — кончилась?
И сам от своего командирского голоса распрямился под халатом.
Санитар враз поскучнел, безликим сделался.
— Не я ж захотел, — бормотал он себе под нос, переходя к другому окну. — Или мне моя нога лишней оказалась?
Третьяков посмотрел ему вслед, на один его сапог и на деревяшку. Что ему объяснишь? Не приставишь оторванную ногу и не объяснишь. А самое главное, что он и себе не все уже мог объяснить. В школе, со слов учителей, он знал и успешно отвечал на отметку, почему и как возникают войны. И неизбежность их при определенных условиях тоже была объяснима и проста. Но в том, что он повидал за эти годы, не было легких объяснений. Ведь сколько раз бывало уже — кончались войны, и те самые народы, которые только что истребляли друг друга с такой яростью, как будто вместе им нет жизни на земле, эти самые народы жили потом мирно и ненависти никакой не чувствовали друг к другу. Так что же, способа нет иного прийти к этому, как только убив миллионы людей?