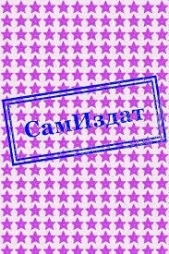Славная Мойка — священный Байкал

Славная Мойка — священный Байкал читать книгу онлайн
Журнальный вариант повести Михаила Глинки «Славная Мойка — священный Байкал». Опубликован в журнале «Костер» №№ 1–3 в 1973 году.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Так вам сразу все семейные секреты и выдай, — сказал страшно довольный дядя Тигран. — Может, и окисления хватит.
— Может, и хватит, — задумчиво сказал папа. — Ну, что — за дело? Лить пули?
— Где у тебя реквизит, потомок чеканщиков?
— Там, где ему и положено быть, — ответил аккуратный дядя Тигран и открыл еще один ящик.
Пули, которые мы в то воскресенье лили, назывались двойными турбинами. Они были с дыркой внутри. И с обеих сторон — снаружи и по стенкам дырки — у этих пуль шли глубокие винтовые канавки. В воздухе такая пуля начинает вертеться, как волчок, а если во что-нибудь попадет, то разваливается на кусочки, и кусочки эти рвут все кругом. Довольно зверская штука!
— На медведя, так уж на медведя, — сказал дядя Сережа. — Медведь лошадям шейные позвонки перекусывает, так против него приходится кое-что придумывать. Или ты, Митрий, считаешь, что на медведя надо ходить с рогатиной?
— С рогатиной, конечно, честнее, — сказал я.
— Мы тоже так думаем, — сказал дядя Сережа. — Но, знаешь, для рогатины особое древко нужно — рябиновую, понимаешь ли, жердину. А где ее достанешь? Надо весеннюю, особую, выдержать ее как следует…
— Трудно, — сказал я.
— Вот и приходится пока заниматься ружейной охотой, — сказал дядя Сергей, он у нас все же главным по медведю был. — Мы, Митрий, понимаем твое отношение к этим пулям, мы к тебе даже в некотором смысле присоединяемся, но пока ничего не можем поделать, медведя все же надо победить…
Формочку для пуль дядя Тигран выточил на каком-то особом станке. Снаружи она была как медный кубик с двумя дырками. Пули вываливались блестящие, как серебро, хотелось сразу же взять их в руки.
— Дядя Тигран, мне надо тут несколько дырочек просверлить, — сказал я и вынул лист жести.
— Так в чем же дело?
— Вы поможете?
— Да ты сам справишься. Вон там станок. Только зажми как следует, чтобы на сверло не замотало. Сережа, покажи ему.
Мы с дядей Сережей подошли к сверлильному станку. Я знал, где он включается. Мы выбрали сверло, и дядя Сережа завинтил его в патрон.
— Зажми жесть, — сказал он.
— Дай так можно…
— Зажми жесть, — повторил он.
А зачем ее было зажимать? Дырок-то нужно было много — штук десять — так что, каждый раз заново и зажимать? Я включил станок.
Дядя Сережа его выключил.
— Зажми жесть, — спокойно сказал он.
Ну, я зажал. Включил. Опустил сверло. Оно, как бумагу, прошило жесть. Поднял сверло, развинтил тиски, передвинул жесть. Хотел опустить сверло снова.
— Зажми жесть, — как автомат сказал дядя Сережа.
Пришлось опять зажать.
— Вот так.
После пятой дырки он отошел.
— Скоро ты там? — спросил меня папа.
— Сейчас.
Я досверливал седьмую. Не стал я больше зажимать жесть. Держа ее в руке, я нажимал на рычаг сверла. Вот уже почти просверлил… Но тут кусок жести вырвался у меня из пальцев и завертелся на сверле. Я не успел отдернуть руку — рубануло по пальцам. Я заорал и отскочил от станка.
…Они все трое стояли и смотрели, как на сверле крутится погнутая жестянка, и на мои пальцы. Не до кости, но здорово резануло, а главное, жаль, что не левую — завтра у нас письменная контрольная…
И стыдно было.
— Я считаю, что Митьке повезло, — сказал дядя Сережа. — Хоть одну вещь он на всю жизнь запомнит.
Пальцы мне полили йодом и замотали. Но никто не жалел, даже папа. Только спросил — больно или не очень. Я подождал, когда совсем невтерпеж от йода стало, и сказал:
— Не очень…
— То-то, — сказал дядя Сережа. — Пойди-ка, вынь сверло и поставь его на место, в гнездо…
Теперь то, что он говорил, я в оба уха слушал. Мне даже приятно стало делать то, что дядя Сережа хочет, чтобы я делал. Папа засмеялся и сказал, что его сын, то есть я, явно сообразительней дождевого червя.
Собака
На большой перемене Томашевская подошла ко мне с каким-то списком и, не глядя, говорит:
— Беляков, на собаку сдавал?
— На какую собаку?
— Как «на какую»? — говорит. — Мало того, что ты вообще… Так еще и жмот!
— Что значит «вообще»?
— А вот то и значит!
— Что это «то»?
— Что? Сказать?
— Ну, скажи, скажи!
— А то, что с тобой вообще… настроение только портить! Да еще и жмот!
— Ты, — говорю, — дообзываешься сейчас! Выдумала тут…
— Я? Выдумала? Она там голодная, скулит все время, а ты тут сытый…
Нас уже обступили, слушают.
— Эх ты! — говорит Нинка. — Весь класс уже сдал, а ты жмотничаешь. Ну, ничего, когда мы ее выкормим — ты лучше не подходи. Я ей скажу: «Взять!» Она тебя и повалит. И загрызет. И поделом! Уговаривались ведь каждую неделю по десять копеек собирать? Уговаривались? И ты, жмотина, тоже руку тянул!
И тут я вспомнил. Ну, было такое недели две назад. Девчонки нашли эту собаку где-то около школы — грязная вся она была и в крови. Лохматая такая шавочка, средненькая, и почти на ногах не стояла. Хромает, и где ни погладишь — болячки. Домой ее никто не взял — все равно родители бы не разрешили, а Нинка тогда у мальчишек стала разузнавать, где наш подвал находится. Подвал этот был закрыт, но мы знали, как туда проникнуть, а кроме нас больше никто. Подвальчик был ничего себе. Во-первых, там были зеркала — спичку зажжешь, и она раз пять отражается — даже страшно. И потом еще там стояли бидоны с олифой. Мы факел зажгли из олифы, так еле потушили. Закопченные, как из трубы, вылезли.
— Эх ты! — говорит Томашевская. — Сам-то вон какой сытый, а больной собаке десять копеек жалко!
— Да замолчи ты, — говорю. — Я тебя просто позлить хотел. Сейчас сдам…
Сунул руку в карман, а там — пусто. Как же так? Ведь были утром. Двадцать копеек было. В другом кармане поискал. Все равно нет.
— Нет, — говорю, — денег.
— Нет, да? — и смотрит на меня, будто я преступник. — А восьмого марта на лимонад нашлось?
— Ну и что?
— А сейчас — нет?
— А сейчас нет.
Ну до чего же глупая все-таки!
— Вот ты какой, оказывается, Митенька… — говорит.
— Я тебе не Митенька, а Беляков!
— Ты и собаке — тоже Беляков. И кошке, больной — тоже Беляков. Ты и котенка можешь ногой раздавить — и не оглянешься!
— Послушай, — говорю. — Отстанешь ты все-таки? Я ведь к тебе не пристаю, правда?
От нас уже все отошли, потому что видят — нет у меня денег. Мало ли у кого их не бывает — почему это у меня в кармане обязательно деньги должны быть? Я ведь их не зарабатываю.
— Ты и меня можешь ударить, — говорит Томашевская, не глядя. — Я-то помню, как во втором классе…
Вот характер злопамятный, а? Три года назад двинул ее портфелем — все кругом давно забыли, я — и то не помню, а она, оказывается, до сих пор под впечатлением.
— Ну, еще что скажешь? — говорю.
Молчит.
— Все? — спрашиваю.
— Нет. Не все.
— Ну, что еще?
— Раз ты денег не сдаешь, значит, должен поработать…
— Как?
— Пойти в магазин и на общественные деньги купить для собаки еду. И отнести ей.
— Да я и не знаю, что ей покупать…
— Зато я знаю.
— Ты и покупай!
— А ты?
— А что я?
— Значит, так и не хочешь для собаки ничего сделать?
— А ты ведь уже покупаешь?
— Еще не покупаю. Это ты будешь покупать.
— Да что нам двоим-то в магазине делать?
— Почему двоим? Ты покупать один будешь.
— А ты?
— А я — только тебе говорить, что покупать.
Всю перемену не отцеплялась.
В подвал я полез первым. Там было такое низкое окошечко, вроде щели, забитой досками. Но две доски мы уже давно оторвали и приставили их на место только для виду. Я дождался, когда на дворе стало пусто, и быстро влез. А Томашевская стоит.
— Лезь, — говорю.
— А я вся перепачкаюсь…
То, что я измазался, ее не волнует.
— Ты же все-таки мальчик, — говорит. Спорить я не стал.