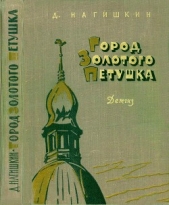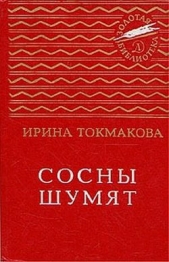Город Золотого Петушка. Сказки

Город Золотого Петушка. Сказки читать книгу онлайн
Повесть советского писателя Д. Д. Нагишкина (1909–1961) «Город Золотого Петушка», проникнутая романтикой, светлым чувством мечты о счастье, стремлением отстоять мир на земле, рассказывает о дружбе латышского и русского мальчиков.
О людях труда, о человеческой доброте — сказки «Храбрый Азмун», «Бедняк Монокто» и другие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Игорь, глядя им вслед, стал собирать садовые инструменты Каулса. О, Андрис! Какой же ты крепкий! Зачем все это случилось? Поймать бы того, кто убил Яниса Каулса! Как тяжело, как тяжело все это…
6
Калитка со штурвалом была открыта настежь, а перед ней прямо на землю настланы были сосновые ветки. И каждый, кому случилось в этот день идти по улице Базницас, видя эти ветки, знал — в этом доме случилась утрата, и калитка открыта не потому, что хозяин не бережет свое добро, а потому, что каждый добрый человек может сегодня войти в этот дом и разделить горе хозяев, сказав им хорошее слово или просто поглядев печальным взором на того, кто собрался в последнюю дорогу…
И один за другим шли люди в дом Яниса Каулса, как в свое время зашли они к его отцу, чтобы проститься с ним навсегда. Но Петер Каулс отправился в свое последнее плавание лишь тогда, когда уже ослабели его руки и ноги от ходьбы по жизненным дорогам, и глаза его уже плохо видели, устав от вечного созерцания морской глади, и сердце работало только так, как может работать старый, изношенный мотор, выслуживший все сроки. А Янис ушел из этой жизни совсем не ко времени! Еще ясны и зорки были его глаза, крепки были его ноги, как крепки корни сосен, и сильны были его руки, которыми мог он остановить лошадь на всем скаку, и в его широкой груди билось молодое, здоровое, сильное сердце, которое гнало по жилам Яниса Каулса молодую горячую кровь, питавшую это тело богатыря… Знала подлая рука, куда нанести удар, чтобы это тело перестало жить!..
Но где же эта рука, где человек, который, страшась Яниса или завидуя ему, может быть ненавидя его, остановил его сердце ничтожным кусочком стали? Кто проникнет в тайну, скрытую молчанием Каулса и шумом моря, которое когда-то оплеснуло детское тельце в руках Петера Каулса, так окрестившего своего первенца, а спустя годы — равнодушно сомкнуло свои зеленоватые воды над телом сына Петера, чтобы никто не узнал тайну его гибели, тайну того, что произошло на берегу моря в одну темную ночь. Не прошел ли убийца сегодня по сосновым веткам, заглушающим шаги, не был ли тут — с руками, опущенными вниз, и с выражением лицемерной печали на лице?.. Кто знает?! Свой или чужой? Конечно, чужой, даже если в его кармане лежит такой же паспорт, какой лежал в кармане Яниса.
Много друзей было у Яниса Каулса, много ног прошлось по веткам, и вот уж совсем были они затоптаны и занесены морским песком. Перешептываясь, все шли и шли люди. Постояв минуту, выходили прочь и, теряясь в догадках, строя предположения и поглядывая туда, в сторону залива, толпились на улице, запрудив ее. Кто не знал садовника Каулса, который партизанил, которого гитлеровцы морили в страшном лагере, которому знакома была смерть и опасность и который больше всего на свете любил деревья! Все знали его, и весь поселок чувствовал смерть Яниса как свою утрату и ощущал глухую тревогу: разве нельзя еще жить спокойно? Разве еще ходят «они», которые мечтают накинуть латышам старое ярмо на шею? Разве не перевелись еще те, кто падок на чужие деньги, кто может поднять руку на честного человека?..
…Восемь здоровых мужчин — сверстников Яниса Каулса, тех, которые вместе с ним когда-то босоногими бегали по этим уличкам и таскали чемоданы богатых туристов-иностранцев, — восемь здоровяков подняли, кряхтя, тяжелую домовину с телом своего Яниса и зашагали, куда повел их пастор — немолодой человек с грустным лицом, в черном сюртуке и белом маленьком галстуке на тонкой шее. Пастор шел неторопливо, легко касаясь земли сухонькими ногами в начищенных штиблетах, и сжимал в руках свой требник с распятием, которое было обращено к цели путешествия…
Игорь взял Андриса за руку. Андрис не ответил на его пожатие, но и не отнял своей руки. Так они и шли вместе, нога в ногу, не глядя друг на друга. Андрис не глядел даже на гроб. Покрасневшие глаза его были устремлены на ноги тех, кто шел впереди, ступая осторожно и неловко…
Среди деревьев, на кладбище, было сумрачно — лучи солнца не пробивали густую листву, только кое-где солнечные блики ложились золотыми пятачками на зеленую траву, на дорожки, протоптанные чьими-то ногами. Вот и последнее пристанище отца Андриса — у подножия высокой березы. Это — плакучая береза, тонкие ветви ее стелются по ветру от малейшего дуновения ветра, и покрыты они множеством мелких-мелких листиков. Ветви спускаются шатром и почти касаются земли, бережно прикрывая собою то место, где лежать уроженцу Пиебалги. Долго придется лежать тут Янису…
Никто не говорил здесь ни слова вслух, только неясный шепот шел со всех сторон. Но вот утих и шепот, и только шуршали ветки березы, задевая друг друга. Пастор стоял, полузакрыв глаза, и лишь одним пальцем постукивал по переплету своего требника, что выдавало его волнение. Кто-то подошел к нему и сказал, что сделано все, что следовало сделать. Тогда он осмотрел толпу и поднял глаза к небу. Негромко он сказал:
— Никому не положено перейти это, и никто не ведает ни дня, ни часа, когда предстанет перед престолом господа, — ум наш бессилен постичь неисповедимые пути его. Как жнец срезает сноп в поле, так смерть кладет предел жизни…
И вдруг тетя Мирдза, которую поддерживали под руку соседи Каулсов, сказала сквозь рыдания:
— Да ведь жатва-то не поспела, господин пастор! Поглядите на нашего Яниса — разве господь его взял? Злая рука…
Женщины испуганно бросились к ней. Кто-то сунул ей под нос нашатырный спирт. Кто-то склонился к ее голове так, что совсем заслонил от всех. И она затихла. Андрис стал смотреть на пастора, как бы впервые увидев его только сейчас. Пастор промолчал, не опуская глаз, и, когда рыдания тети Мирдзы затихли, строго сказал опять:
— Как жнец срезает сноп в поле, так смерть кладет предел жизни! Не дано нам знать, где и когда вознесем мы последнее свое дыхание… Но скорбим мы, когда перед лицом господа предстает не старец со спокойной душой, познавший горести и радости жизни, как к желанной пристани, к последнему прибежищу направляющий смиренный дух свой, а человек молодой — полный сил и надежд, полный замыслов на добро ближним своим. Ибо не все свершил он, что мог! Ибо ушел он должником с нивы жизни, не исполнив урока своего до конца! Но не слезами и воплями, не горестными криками надо провожать ушедшего от нас, а добрым словом — в семени своем еще жив Янис Каулс, и думать надо не об отмщении, а о том, как вырастить из этого доброго семени доброе растение во славу господа и на радость живущим… Андрис, сын Яниса! Господь да благословит тебя на трудную жизнь! Пусть даст он тебе силы на то, чтобы быть, как и твой отец, хорошим гражданином и добрым христианином!..
Андрис не сводил глаз с пастора. В глазах его светился какой-то вопрос, что-то невысказанное. Казалось, что он вдруг крикнет сейчас что-то. Но он промолчал, подавив в себе это желание.
А пастор — голос его вдруг как-то осел, стал сиплым, пастор несколько раз кашлянул, чтобы прогнать комок, ставший у него в горле, — сказал, что ему довелось, по воле бога, принять первый вздох своего прихожанина Яниса Каулса: случилось так, что в поселке, когда жена Петера Каулса готова была разрешиться, не было повитухи и перепуганный Петер, когда жене стало очень плохо, думая, что она умирает, прибежал к пастору, чтобы он причастил ее. И пастор пришел для того, чтобы принять младенца! И вот тот, кто пришел в этот мир при помощи этих рук — пастор поднял вверх свои искривленные ревматизмом бледные руки, — принимает от них же последнее благословение.
У Игоря, которому никогда не приходилось бывать на похоронах, как-то мелькало в глазах.
Он то видел все с удивительной резкостью — и сухие, воздетые к небу руки пастора, и сумрачных людей, что стояли неподалеку в позах землекопов, недовольных перерывом в работе, и лицо Эдуарда, на скулах которого все время играли жевлаки, и бледность папы Димы, который перемогался, чувствуя себя очень плохо, но не имел силы, чтобы уйти, пока не кончится этот печальный и горестный обряд, и то, что в сторонке лежал нарезанный аккуратными кусочками дерн, и обмякшее безвольное тело тети Мирдзы, тяжело опиравшейся на плечи женщин, и лицо Андриса, который часто-часто мигал из-за слез, застилавших его глаза, — то переставал что-либо видеть и слышать, занятый своими мыслями.