День твоего рождения
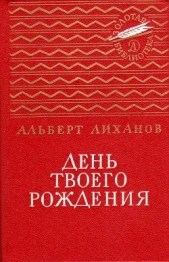
День твоего рождения читать книгу онлайн
Альберт Лиханов собрал вместе свои книги для младших и для старших, собрал вместе своих маленьких героев и героев-подростков. И пускай «День твоего рождения» живет вольно, не ведая непроницаемых переборок между классами. Пускай живет так, как ребята в одном дворе и на одной улице, все вместе.
Самый младший в этой книжке - Антон из романа для детей младшего возраста «Мой генерал».
Самый старший - Федор из повести «Солнечное затмение».
Повесть «Музыка» для ребят младшего возраста рассказывает о далеких для сегодняшнего школьника временах, о послевоенном детстве.
«Лабиринт»- мальчишечий роман о мужестве, в нем все происходит сегодня, в наше время.
Рисунки Ю. Иванова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Дедушка! Дед!
Но никто не откликается.
И я плачу. Плачу навзрыд. Плачу до хрипа, до крика!
В комнату вбегает мама, гладит меня по плечам и говорит:
- Ну, Антошка! Антошка!
Она плачет сама.
Приходит папа.
Он обнимает нас изо всех сил, до боли и говорит срывающимся голосом:
- Ребята! Ребята, будьте мужчинами!
Нет, это невозможно!
Это выше сил!
Я не могу, не могу, понимаете!
Я не могу быть мужчиной!
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
На крутой горе
Мы похоронили его на горе.
На самой вершине отвесной скалы, откуда видно далеко вокруг.
И плотина прямо под ногами.
И дальняя тайга, которая скоро исчезнет, а вместо нее будет море.
И еще тайга, которая никогда не исчезнет, а будет вечно шуметь, принося на вершину запах смолы и хвои.
Когда-то я был здесь, на этой вершине. Кешкин дед, Иннокентий Евлампиевич, взял отпуск, сделал деревянную колотушку, и мы отправились шишковать. А потом вышли сюда, и я поразился. Поразился красоте. Раздолью. Близости неба.
Дедушку похоронили там.
Взрывники заложили динамит, и эхо прокатилось над далекой тайгой.
Дедушка лежал спокойный, в парадном мундире. Только без орденов. Ордена горели на красных подушечках. И все горело вокруг. Пионерские галстуки нашего отряда. Наш отрядный флаг, опущенный к гробу. Красное знамя в руках Бориса Егорова. Горела медь горнов и солнце над головой.
Эх, солнце!
Опять как тогда. Меня еще не было, и папе исполнилось три года, когда началась война, нежданно-негаданно, и солнце не спряталось тогда за тучи, будто и его застали врасплох.
И сейчас!
Сейчас тоже врасплох! Оно не знало, конечно, что дедушка умрет, не знало, как и я, а то бы спряталось, опустило покрывало черных траурных туч.
Я стою возле гроба.
Я смотрю на деда.
Руки отяжелели, и голова тоже. Весь я пустой и каменный, не живу, не дышу, только вижу.
Вижу папу, стоящего на колене у гроба. Вижу маму в черной одежде. Она положила руку отцу на плечо. Будто на той фотографии. Анна Робертовна в черном платке. Гриша ее под руку держит.
Я слышу звук.
Странный плач.
Это плачут горны.
Они сверкают на солнце, трепещут алые вымпелы на каждом из них, но горны плачут.
Ту-ру-ру-ру-у-у!..
Ту-ру-ру-ру-у-у!..
И вдруг слышится еще что-то.
Я смотрю в сторону, на стройку, и все оборачиваются туда.
Я вижу белую плотину, а в котловане и дальше, на берегу, - множество машин. Множество самосвалов.
Они стоят. Это странно. Машины никогда не стоят на стройке.
Но тут они стоят как попало, замерли и… гудят!
Гудят все вместе, тягучим, торжественным голосом, и в него, будто в оркестре, вплетаются пронзительные голоса консольных кранов.
И там, в котловане, люди, похожие на муравьев, остановились, смотрят, подняв руки к платкам и козырькам, на высокую вершину, где стоим мы.
Меня зовут Антошка, вы знаете.
Меня назвали так в честь деда, и это значит, что дедушка всегда со мной.
Мой генерал всегда рядом.
Вот он смотрит на меня со стены. Сперва - молодой, глаза сверкают озорно. Потом - старый, вместе со мной, но и на этой фотографии глаза у него улыбаются.
Он же улыбался, когда пел тысячу раз:
Эта песня вовсе не грустная. Она даже веселая. И правда - разве это плохо? Умереть, так сразу. А если ранят - пусть рана скорей заживет!
Дед со мной. Он рядом. Он так жил, что не может умереть. Никогда!
Я просыпаюсь по ночам и больше не плачу.
Я думаю с тоской только, что больше дедушка не скажет мне строго:
«Думай!»
Не попросит мягко:
«Пошепчемся!»
Не улыбнется ласково:
«Эх, Антоха!»
Я сдерживаюсь.
Я не плачу.
Я глотаю тугой комок, подкатившийся к горлу, и складываю стихи про дедушку.
Я придумываю эти стихи. А они не выходят.
Я тычусь головой в подушку и бью ее отчаянно кулаком.
Все равно я сочиню эти стихи. Все равно, дедушка, ты будешь живой.
Все равно! Все равно! Все равно!


МУЗЫКА
У всякого человека есть в жизни история, которая как зарубка на дереве: потемнеет от времени, сровняется, смолой ее затянет, но приглядишься посильней - вот она, тут, осталась, присмотришься еще - и время обратно пойдет, закрутится часовая стрелка против солнца все скорей и скорей…
Вот и у меня есть такая история, и я всегда вспоминаю ее, когда слушаю музыку. Вспоминаю, как учился я играть, да так и не выучился, зато выучился другому, может быть, поважней музыки, выучился… да, выучился драться. Не просто кулаками махать, а отстаивать справедливое дело.
Началось все это как-то случайно, и никак я не мог подумать, что в этот обыкновенный, простой самый день начинается какая-то там история.
Итак, это было где-то вскоре после войны. Когда я, вернувшись из школы, ел жидкий супчик с перловыми крупицами на дне, позвякивая ложкой, а бабушка и мама сидели по краям стола и участливо глядели на мою макушку, жалея меня за выпирающие из спины лопатки, бабушка неожиданно сказала:
- Ой, Лиза, у Правдиных Ниночка идет в музыкальную школу. Давай и Колю запишем!
Я пошевелил ушами, не придавая этому большого значения и не отрывая взгляда от крупинок перловки на дне. Это меня и погубило.
Я не удосужился посмотреть, как заблестели бабушкины глаза, и был наказан.
А бабушка и мама оживленно говорили надо мной, обсуждая новую проблему, и бабушка, особо склонная к искусству, рисовала живые картины. Я и эти картины пропускал и оторвался от тарелки только раз, когда бабушка вдруг зажужжала.
Я вопросительно поднял голову и увидел, как бабушка, закрыв глаза и отведя в сторону левую руку, держит в другой руке вилку и жужжит - то громче, то тише. Лицо ее выражало высшее блаженство, и только тут я понял, что она подражает скрипачу и звуку, видимо, скрипки.
Мама сидела напротив бабушки, облокотившись о стол, глядя куда-то вдаль, и лицо ее было задумчиво.
Я смотрел на них, и незаметно ложка упала у меня из рук, произведя чужеродный обстановке звук, сопровождаемый жидким фонтанчиком.
Бабушкина скрипка умолкла, она поглядела на меня и засмеялась. Засмеялась и мама, и они долго хохотали, вытирая слезы и гладя меня по макушке.
Разговоры о музыке поутихли, хотя, как мне казалось, бабушка чаще прислушивалась теперь, когда по радио что-нибудь играли и, бывало, даже останавливалась посреди комнаты с суповой кастрюлей, а на лице ее было отсутствующее выражение.
Я по-прежнему жил своей мелкой частной жизнью заурядного четвероклассника и все еще не мог осознать назревающей угрозы.
Примерно через неделю, когда я, как и в прошлый раз, глотал суп, мечтая о белой булке и раздумывая, почему она называется французской, над моей головой произошел еще один разговор на музыкальную тему.
- Ты знаешь, - сказала бабушка маме, - я была у Правдиных. Они скрипку не рекомендуют. Очень действует на нервную систему.
- А как же? - растерянно спросила мама. - Можно было бы мою шубу обменять. На рынке скрипки есть.
- Да, - сказала бабушка, - но большой размер, взрослые. Для детей нужно поменьше. А купишь маленькую - вырастет, новую надо. Не наберешься…


























