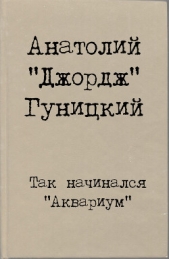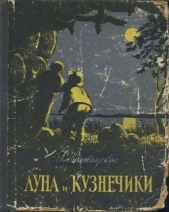Лесовичка

Лесовичка читать книгу онлайн
В начале XX века произведения Л. Чарской (1875–1937) пользовались необычайной популярностью у молодежи. Ее многочисленные повести и романы воспевали возвышенную любовь, живописали романтику повседневности гимназические и институтские интересы страсти, столкновение характеров. О чем бы ни писала Л. Чарская, она всегда стремилась воспитать в читателе возвышенные чувства и твердые моральные принципы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И махнув рукой, она быстро выбежала из беседки, оставив опешившего и растерянного Виктора одного.
— Когда понадобится, черкни и записку сюда доставь! — послал он ей вдогонку, в то время как ее черная фигурка то появлялась, то исчезала среди сугробов, быстрыми скачками спеша домой…
Глава X
Горе королевы. — Так она решила. — Змейка кружится. — Рассказ маркизы
— Девицы! Радость! Матушка Манефа сегодня после всенощной в обитель снаряжается!
Ольга Линсарова, как добрый гений в черной ряске, своим звонким шепотом точно пробудила подруг от унылой задумчивости.
Девочки, сидевшие за чтением жития святых в этот праздничный морозный вечер, живо повскакали с мест.
Если бы радостную весть им принесла другая пансионерка, они бы не поверили. Но Ольга Линсарова была настоящим воплощением истины. «Правда в ряске», как ее шутя называла Игранова. Ольге верили всегда, верили каждому ее слову.
— Господи, да неужто ж уедет? — боясь радоваться неожиданному счастью, шепотом переговаривались девочки. — Вот-то радость! Скорпионша в отпуску. В Новгород укатила к сестре «мирской». Манефа сегодня уедет. Остается Уленька… Но Уленька не так страшна! Донесет, правда, матушке, но пока донесет, сколько дел наделать можно…
— Девочки, и пир же мы устроим нынче! Косолапихе отец пропасть всякой снеди прислал… Поделимся, головиха?
И Игранова мячиком подкатилась к толстушке Маше.
— Поделюсь, девочки! Тятенька, Бог ему здоровья пошли, целую лавку доставил сюда с нашими молодцами! — заключила она, облизываясь.
— И мне отец с денщиком посылку прислал, у сторожа в передней стоит, объявила Игранова.
— И ты, институтка, поделишься?
Катюшу иначе не называли теперь, узнав о ее переводе из пансиона в институт.
— Поделюсь, девочки… А и пир же мы устроим! — чуть не на весь класс рявкнула Катюша.
— Ко всенощной! Ко всенощной стройтесь, девочки! — словно из-под земли выросла Уленька, — матушка торопит. Бурнусы велела новые ради праздника надеть.
— Ладно, знаем!
И девочки, охотнее чем когда-либо, выстроились в пары. Еще бы! Им ли не радоваться! Целые сутки впереди на Свободе, без надзора двух строгих, суровых, ничего не прощающих инокинь.
Весело и бодро шли черные фигурки по знакомой дороге к городскому собору. Снег хрустел под ногами. Крещенский морозец пощипывал щеки. Вызвездевшее небо умильно сияло детским глазам золотыми, чуть мигающими очами. Собор, освещенный по-праздничному, казался особенно торжественным в этот вечер Рождественского кануна. И суровые лики святых, и светлые ризы священников, и без единой улыбки мрачное лицо Вадима, строгого духовника пансионерок, все сегодня получало какой-то особый светлый отпечаток. Печать грядущего праздника виднелась на всем. И сами клирошанки пели как никогда. Казалось, ангелы спустились на землю, чтобы голосами этих скромных черных фигурок приветствовать родившегося в дальнем Вифлееме младенца Христа…
После всенощной «монастырки», несмотря на утомление, шли по городским улицам бодрые, веселые. В пансионе их встретила с подогнутым подолом Секлетея, мывшая полы в отсутствие девочек. Сторож Нахимов, ветхий белобородый старик, накрыл стол, поставил кутью, рис с медом, пироги с вязигой и заливное. Вифлеемская звезда глядела в окно. Пост разрешался.
Поужинав и получив напутствие от уезжавшей матушки, девочки пришли в спальню.
Одну Ливанскую матушка задержала у себя.
Охотно и быстро раздевались «монастырки» в этот вечер. Они знали, что лишь потушит лампу Уленька и уйдет в свою комнату, отстоящую далеко от их спальни, как все встанут со своих жестких постелей. И начнется тогда пир горой, начнется полная детская радость. Будут лакомиться домашними яствами, будут гадать и рассказывать страхи в эту таинственную святочную ночь… Хорошо будет!.. Ах, хорошо!..
Уже одиннадцать девочек покорно, по первому сигналу Уленьки, улеглись в постели, скрестив на груди руки, как это требовалось пансионским уставом. Уже уходя, костлявая рука Уленьки протянулась к лампе, чтобы завернуть в ней свет, как неожиданно хлопнула дверь спальни и, рыдая навзрыд, Лариса ворвалась в комнату.
— Что? Что ты? Что с тобой? Ливанская! Королева! Ларенька! Что случилось?
Девочки, не помня себя, не слушая Уленьки, повскакали со своих постелей и окружили рыдающую красавицу.
Лариса даже не могла совладать с собою. С распустившимися вдоль спины косами, вся бледная, с трясущеюся челюстью, она бросилась, распростершись, на постель и рыдала, рыдала, рыдала.
Растерянные, взволнованные, босые, в одних длинных ночных сорочках, девочки стояли вокруг любимой подруги.
— Ларенька, милая, да скажи ты, что с тобой, Ларенька!..
Она все рыдала, не будучи в силах произнести ни слова.
Но вот, протиснувшись с трудом через толпу девочек, к ней пробралась Уленька.
Положив свою желтую, крючковатую руку на плечо королевы, послушница затянула своим приторно-слащавым голоском:
— Полно убиваться… Грешно плакать так-то, девонька… Матушка отличает… Матушка, можно сказать, из целого сонма выбрала… а вы так неистовствуете, красавица вы моя! О Господи!.. слез откеда берете-то! Словно не на безгрешное, ангельское празднество, не на радость духовную, а на смертное дело вас ведут… Опомнитесь, Ларенька, опомнитесь, краля моя писаная… Христовой невестой будете… Госпо…
— Не хочу в обитель! Не хочу быть монахиней! Не хочу! Слышишь? Не хочу! Не пойду в обитель. Умру лучше, а не пойду! Так пусть и знают! Умру! Да! Да! Да!
Теперь уже Лариса не лежала, захлебываясь в слезах. Высокая, стройная, она выросла перед послушницей. Красивые глаза ее горели злым, неприязненным огнем. Обычно рассудительная и спокойная девушка, она вся теперь кипела возбуждением.
— Что вы, Ларенька, что вы, царевна моя распрекрасная, что вы раскричались так? — затянула было снова Уленька и вдруг осеклась.
Прямо ей в лицо уставились два с лишним десятка таких жгучей ненавистью горящих глаз, что она запуталась, смолкла и, подхватив для чего-то свою черную ряску рукою, поспешно пробормотала что-то и юркнула за дверь.
— Ушла! — вздохом облегчения вырвалось из груди девочек. — Теперь, Лариса, говори.
Королева села. Вокруг нее сели остальные. Маркиза Соболева пробралась к «королеве» ближе других и, положив на колени королевы свою белую головенку, смотрела ей в лицо полными скорби и участия глазами.
Верный рыцарь — Игранова — поместилась у ног Ларисы и, судорожно подергивая ртом, кусала губы, чтобы не дать воли охватившему ее волнению. Остальные девочки плотнее окружили их.
— Говори, Ларя, говори.
— Да что говорить, девочки, что говорить-то! — с тоскою и озлоблением вырвалось из груди Ларисы. — Позвала «она» меня сейчас и говорит: «Знаешь, зачем я в обитель еду?» — Не знаю, говорю, а у самой сердце екнуло, недоброе словно что-то чуяла душа. Не знаю, говорю, матушка. А она ухмыльнулась да и говорит: «Готовься предстать перед праведные очи матушки игуменьи… После праздников и елки у княгини отвезу тебя я туда»… Как услыхала я это, так и бухнула ей в ноги… — Матушка, не губи! Матушка, оставь у себя, не неволь! Не гожусь я в монахини. Грешница я. Мирская душа во мне… А она мне на это: — «Душа что воск. Разогреешь ее молитвами, и станет она топиться и таять от жизни иноческой. Так мы решили с матушкой игуменьей, — так тому и быть. Готовься стать инокиней!»
— Все кончено теперь! — заключила, зарыдав вновь и заламывая руки, Лариса.
Примолкли, притихли девочки. Горе было велико.
Трудно было помочь такому горю. Мраком и безнадежным отчаянием наполнились детские души. Помочь нельзя.
— Ларенька, милая! Отнимут от нас тебя, Ларенька! — прокричала маленькая Соболева.
— Маркиза, молчи! Не рви душу… И без того тошно… О, если бы только силу мне!
И «мальчишка» довольно недвусмысленно погрозила кому-то кулаком в пространство.
— Бодливой коровке Бог рог не дает, — съехидничала Юлия Мирская, выставляя из-за чьей-то спины свою черную голову.