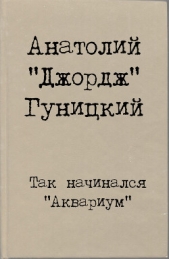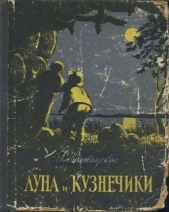Лесовичка

Лесовичка читать книгу онлайн
В начале XX века произведения Л. Чарской (1875–1937) пользовались необычайной популярностью у молодежи. Ее многочисленные повести и романы воспевали возвышенную любовь, живописали романтику повседневности гимназические и институтские интересы страсти, столкновение характеров. О чем бы ни писала Л. Чарская, она всегда стремилась воспитать в читателе возвышенные чувства и твердые моральные принципы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Игранова, отвечай, какие знаешь хребты!
«Мальчишка» подняла голову. Улыбка змеилась в уголках пухлого ротика Катюши, сверкала в ее живых черных глазах. Она с усилием проглотила слюну, как бы собираясь с силами, вздохнула полной грудью и выпалила сразу, делая невинное лицо:
— Я знаю хребты спинные, человеческие, коровьи, лошадиные, собачьи…
— Что-о-о?
— Кошачьи, крысьи…
— Молчать!
— Лисьи, волчьи…
— Дерзкая! Стой…
— Свиные, поросячьи…
— Тебе говорят молчать!
— Молчу!
Черные глаза так и сверкают, так и сыпят потоки смеющихся искр.
Монастырки давятся от хохота. Даже на угрюмом лице Ксении выдавлена улыбка.
— Игранова, на колени! — вся зеленая от гнева командует учительница.
— Стою!
И Игранова, точно деревянная кукла, опускается на пол, вызывая невольный, хотя и сдерживаемый смех всего класса.
— Это уже чересчур! — шипит учительница. — Игранова, вон! Из класса вон!
— Ухожу!
Катюша, как автомат, поворачивается к двери и деревянной походкой, какою ходят заводные солдаты на прилавках игрушечного магазина, направляется к порогу.
Степень гнева учительницы не имеет границ.
— Она думает… она думает… что… что… у нее отец полицеймейстер, и ей… все спускаться будет!.. — бормочет она себе под нос. — И это духовная пансионерка, это… это монашеская питомица!.. Бесстыдница!.. Дерзкая!..
И, полная злобы, Погонина соскакивает с кафедры, бежит на середину класса и выталкивает за дверь Катюшу. Катюша сначала упирается. Это выходит смешно. Девочки тихо, чуть слышно, задавленно хихикают. Затем, с умышленной поспешностью, Катюша выскакивает за дверь. Погонина, багровая от злости, оборачивается к классу.
— Кто смеет смеяться? Кто смеет смеяться?! — кричит она, и заметив слабую улыбку на обычно угрюмом лице Марко, закипает новым приливом гнева.
— Аа! Так-то! Новенькая! На колени!
Ксаня удивленно подняла голову. Ее черные глаза спрашивали, казалось:
— «Почему должна я встать на колени?»
— Молчать, и сейчас же на середину класса на колени! Слышала?!
Ксаня не двигалась.
— За что? За что? — послышались кругом негодующие голоса.
— За что? За то, что эта дерзкая смеялась, осмелилась смеяться, заикаясь, кричала учительница.
— Мы все смеялись… Все… Не одна Марко! Всех ставьте на колени, Анна Захаровна, всех!..
— Нет, не все… Я видела… Она одна только… Да будешь ли ты слушаться меня, наконец? — обратилась Погонина к Ксане.
Голос ее дрожал и срывался.
Ксаня по-прежнему сидела, не трогаясь с места. Ее сильные, смуглые руки скрестились на груди. Мрачные, угрюмые глаза молчали. Рот, твердо сжатый, тоже молчал.
Погонина подошла к ней почти вплотную.
— Дрянная, вконец испорченная девчонка!.. Я буду жаловаться матери Манефе… Другая бы на твоем месте каялась, смиренничала, стараясь загладить свою вину…
— Какую вину?
Глаза Марко вспыхнули. Она стремительно вскочила и вытянулась во весь рост.
— Какую вину? — грозно сдвигая свои и без того сросшиеся брови, вся загораясь страстной ненавистью, прошептала она.
Погонина невольно подалась назад. Что-то жуткое почудилось ей в грозно-красивом лице этой полудевушки-полуребенка.
— К матери Манефе!.. Сию же минуту к ней!.. — хриплым голосом произнесла она. — Вы все от рук отбились… Вы… вы… — и, широко размахивая руками, она вылетела из классной.
Глава VIII
Два письма. — Импровизация. — Неожиданный результат
Гулкий звон, раздавшийся по всему зданию пансиона, возвестил об окончании урока.
Одновременно с ним просунулась опять в класс лукавая Катюша.
— Что, ушел этот идол? — прозвенел смехом голос шалуньи.
— Катя… Катюша… Мальчишка!.. Что ты наделала?!
И моментально проказница была окружена со всех сторон.
— Что я наделала, а? Ничего! Просто ничего! — беспечно тряхнув своей стриженой головой и белой косынкой, произнесла она.
— Да ведь тебя на публичную отповедь, пожалуй, еще потащут!.. Ведь ужас-то какой! Надерзила как сове нашей!
— Ну, это дудки! Отповеди не будет…
— Как не будет? — так и всколыхнулись девочки.
— А так не будет!.. — захохотала Катя. — Вот из-за этого письма самого и не будет отповеди.
И Катюша быстро опустила руку в карман и вытащила оттуда какое-то письмо.
Заинтересованные пансионерки еще теснее окружили всеобщую любимицу.
— Говори! Говори, Катя! Что такое?
— А то такое, что я из нашей тюрьмы на волю ухожу.
— Как так? Что ты врешь, Катерина! Неужто на волю?
— Да, на волю!
И Катя звонко и протяжно свистнула таким лихим, молодецким посвистом, что ей позавидовал бы любой уличный мальчишка.
Потом блестящими глазами она обвела круг любопытствующих подруг, сделала небольшую паузу и отчеканила, любуясь впечатлением произнесенной фразы:
— Меня, девочки, папаша отсюда в институт переводит.
— В институт???
В глазах пансионерок отразилось самое искреннее удивление.
В монастырском пансионе еще не было такого случая. Девочки уходили или в монастырь, или в фельдшерицы, или в учительницы духовных училищ, — но в другое учебное заведение, в институт не попадал никто.
И вдруг Катя — в институт!
— Счастливица! Счастливица! — зашептали кругом. — Ни епитимий… ни «стоянок» на утренях… ни постной пищи… ничего уж не будет!..
— В институте, я слышала, пирожки слоеные по праздникам повар делает! — произнесла, облизываясь, Маша Косолапова.
— Вот глупая, чему завидует! Пирожкам!.. Учат та там всему… Хорошо учат… Ученые барышни из них там выходят! — произнесла с восторгом Паня Старина.
— И «земных» не отбивают… И в холодную не садят их… — ввернула Линсарова.
— А одевают их там, девочки, в зеленый с белым… Красиво!.. И косынками голов не обвязывают! И стихи там по-французски и по-немецки проходят!
Мечтательные глаза «королевы» засияли.
— Да не врет ли она, девицы? С чего бы ее отсюда, а? — грубо нарушила общее очарование Юлия Мирская.
— Я вру?! Я вру?! — так и захлебнулась Игранова — Юлька, очухайся!.. Не отошло еще после утрени… Что мне врать!.. Это вы с твоей Уленькой так заврались, что уж друг друга не понимаете… А мне что? Хочешь, письмо прочитаю?.. Папашино письмо. Папаша пишет, что отдал меня на исправление, а взамен того я будто, будто… еще хуже избаловалась… Видите ли, и до него слухи дошли, что я даже будто бы отцу дьякону к рясе чертика пришпилила… Да еще разное другое… Ну и вот! Возьмут меня отсюда, из тюрьмы нашей… Ура!
И Катя так закричала в забывчивости, что вошедший в класс учитель русского языка, Лобинов, даже вздрогнул от неожиданности.
— Девица Игранова, пощадите мои уши! — с комическим отчаянием воскликнул он, быстро и ловко вспрыгивая на кафедру.
Это был еще молодой человек, симпатичный и добрый, с умными глазами.
Единственный учитель в Манефином пансионе, пользовавшийся среди монастырок большими симпатиями, Лобинов далеко не разделял «педагогических приемов» матушки, но так как его считали лучшим «словесником» и, главное, так как его рекомендовал сам архиерей, то мать Манефа не решалась заменить его другим преподавателем, хотя и жаловалась иногда, что он не «подходит» для ее пансиона и учит тому, чего «монастыркам» и вовсе знать бы не следовало.
— В чем дело, девица Игранова? — спросил мягко Лобинов.
— Ах, Василий Николаевич, — вся вспыхнув, проговорила Катюша, виновата, не заметила, как вы вошли.
— Да чему же вы радуетесь?
— Ухожу я отсюда, Василий Николаевич… Ну, как узнала, что ухожу и все равно взятки гладки с меня, взяла да «сову» и извела.
— Какую сову?
— А Погониху!
— Анну Захаровну? И вам не стыдно, Игранова?
— Ах, не стыдно, милый Василий Николаевич. Ведь она злая, идол она, чучело… Мы ее терпеть не можем… Мучает она нас…
— Эдак и меня, может, не терпите? — лукаво усмехнулся Лобинов.