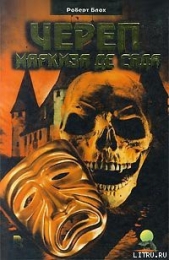Голубые луга

Голубые луга читать книгу онлайн
В произведениях В. Бахревского отстаивается чистота нравственных идеалов в отношении человека к своему труду, к Родине, к любви, в стремлении прожить достойную и полезную людям жизнь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Теперь не пропадем! — тетя Люся сделала на щеках ямочки, и все тоже обрадовались.
— Мамка Вера, неси второе!
На второе была мятая картошка с конопляным маслом. Ее принесли в большой глубокой чашке, поставили посредине стола, и малыши тотчас взгромоздились на колени. Так было удобнее попинаться. Федя тоже встал на колени, но бабка Вера цыкнула на него.
— Сядь! Ты — большой! Достанешь.
Федя обиделся, но сел. Большим, конечно, хорошо быть, только не видать в миске краев, а по краям картошечка самая масляная. Федя быстро начертил на картошке треугольник:
— Моя граница. Никто не трогай!
— Прекрати, Федя, — сказала мать.
— Мамочка, а когда ты буфетчицей будешь, ты нам дашь деньги разбирать? — спросила Милка.
— Дам, родная.
— Мам, я красненькие буду собирать. Тридцаточки.
— И я тридцаточки! — закричал Феликс.
— Мама мне даст тридцаточки собирать! — топнула ногой Милка.
— А ну-ка закройте рты! — приказала бабка Вера. — Кто будет шуметь, тому киселя не дам.
«Я молчу, — подумал Федя, — мне три порции полагается».
Вслух он ничего не сказал. Посматривал на Милку и потихоньку посасывал кисель. Он мог выпить его в один дых, но, во-первых, из-за стола все равно не выпустят, надо ждать, пока взрослые поедят. Во-вторых, Милка ест кисель ложечкой. Она опять сэкономит и будет показывать ему свой кисель и дразнить.
В дверь загрохотали кулаком.
— Да! — сказал отец.
Дверь приоткрылась, и в щелку сказали вежливо:
— Это — я! Лошадь, Николай Акиндинович, готова. Запряг.
— Далеко? — спросила Евгения Анатольевна.
— В ближайший объезд. Там объездчика не было. Сегодня принял Горбунова. Мордвин. Деловой мужик.
— Он — деловой, — подтвердил Цура, просовывая в дверь голову. — Это я его к вам направил. Точно!
— Спасибо тебе, — сказал отец. — Спасибо за обед.
И вышел из-за стола.
Федя залпом глотнул кисель:
— Пап, можно с тобой?
— Можно. Не волнуйся, Женя. Это в трех километрах. На мельнице.
Тарантас был похож на гитару, но Федя вообразил его тачанкой.
— Но! Чтоб вас! — орал на все Старожилово Цура и так восторженно замахивался кнутом на лошадь, будто ехал на тройке.
— Лихая, жуть! — сказал он Николаю Акиндиновичу, кивая на лошадь.
— Ты не кричи на нее, — посоветовал ему лесничий. — Она сама идет хорошо.
— Что это? — спросил Федя, указывая на темный монотонный забор.
— Военкомат, — ответил отец. — У военкома два сына. Старший твоего возраста. Я говорил ему о тебе.
— А он?
— Желает познакомиться.
…Старожилово кончилось. Федя тревожно завертел головой в поисках голубых лугов, но лугов не было: Березовый кустарник не спеша перерастал в тонкие березки, а березкам навстречу спешила радостная березовая роща.
— Красивые тут леса, — сказал отец, — мало их, но красивые.
Федя думал о своем. Быть может, вчера ему открылась Та Страна, а он побоялся войти в нее. Быть может, она открылась ему единственный раз в жизни, а он побоялся войти в нее.
— У нас леса чудесные даже очень, — подтвердил Цура. — Березняк-то! Аж в глазах рябит. Медведей — ужас. Заставь меня в тот лес идти, миллион давай — не пойду. В один миг слопают.
— Медведи питаются ягодами и кореньями, — возразил Федя.
— Рассказывай мне! Слопают — и крышка. Ужасное зрелище!
Николай Акиндинович засмеялся.
— Мы вот устроимся как следует, ты заходи. У нас шкура есть медвежья. Прекрасный был зверь, пудов на двадцать.
— Мы жили в горьковских лесах. Правда, пап?
— Жили не тужили, — сказал отец.
— Тужили. Помнишь, как ты пожаров боялся? Женщины начнут печи топить, а ты как вскочишь и к окну: пожар!
— Там, Цура, перед войной большие пожары были. Верховые. На тысячи гектаров. Поезд в таком пожаре сгорел.
— С людьми?
— Да нет, товарняк!
— Верховой пожар — страшное дело… Я вот тоже утопленников ловил. Нырнешь за ним, а он сидит на корточках. За волосья его хвать — и наверх!
— Где ж тебя угораздило?
— Да тоже в Горьком! Меня сначала туда взяли, в армию-то. В спасательной команде был. Жили — во! Сидишь на пляжу и ждешь, когда кто утопнет. Хорошо жили. Кормили нас хорошо. А потом кинули меня на фронт, на подкрепление. В первый же день и засыпало.
— Значит, ты ни одного немца не убил? — спросил Федя.
— Нет. Я и не стрельнул ни разу. На учениях патроны берегли, на фронте — не пришлось.
Федя хмыкнул. Разговор оборвался.
А лес был все тот же, березовый. Легкая душистая пыль поднималась над колесами, обтекала тарантас, и он плыл в этом ласковом море, покачиваясь, поскрипывая.
Дорога шла вниз куда-то. Появились вдруг елки, посвежело, исчезла пыль. Серые обручи на колесах стали серебряными, и тарантас прыгнул с разбегу в широкий ручей с песчаным ложем и белыми голышами на дне. Выпорхнул на пригорок, покатился по солнцу в степь, к широкой неподвижной реке, к темным грузным домам, где нечто таинственное шумело и двигалось.
— Мельница!
— Погуляй! — сказали Феде.
Горбунов, только утром получивший работу объездчика, уже принимал гостей. Принимал в чужом доме, но угощение было его, спешно привезенное из Старожилова.
— Объезд не больно лесистый — не разбежишься, — философствовал Горбунов. — Луга зато, ничего не скажешь, капитальные, а вся суть в том, что к моей именно территории примыкают сады ликеро-водочного завода!
— А чего же тогда Николая. Акиндиновича не угощаешь? — преданно рассердился Цура.
Мордвин скрутил «козью ножку», прикурил, затянулся и только тогда ответствовал:
— Цура ты непутевая и бестолковая! Всему свой черед. На новом месте сначала обвыкнуть надо, а потом уже куковать. Ты вон для лошади кнут сплел — кумекалка у тебя куриная. Не докумекал, что лошадь кормилица твоя. Ты бы для нее от ребят отнял, а ей принес и был бы умный человек. Добро твое сторицей обернулось бы.
— У меня ребят нету!
— То-то и оно. Глупый, значит. Бабу заимел, а человеком не стал.
— Не хочет она. Боится.
— А я не знал, что ты женат! — удивился лесничий.
— Между тем, Николай Акиндинович, — Горбунов закатил глаза и, подмигивая, поднял оба указательных пальца к потолку, — женщина у этого человека, Цуры, наивысшей золотой пробы. То есть будучи до войны в Москве, в самой Третьяковской галерее, я даже среди княжеского звания подобного не встречал.
— Она у меня красивая, — тихо сказал Цура.
Тут Феде и посоветовали пойти погулять. И он поскорее пошел на улицу. Ему стало жалко Цуру. Может, потому, что тот слишком тихо и совсем честно согласился с недобрым, сильным Горбуновым.
Ворота мельничного амбара, где тяжело дремали серые неласковые жернова, были распахнуты, но солнце не решалось войти в них, а гуляло на порожке, щербатом, заезженном бревне.
Федя тоже побоялся войти в амбар. В амбаре жили крысы и еще кто-то страшный прятался.
Федя пошел на плотину. Вода сквозь щели в досках и бревнах выбивалась тугими пенистыми струями. На другой стороне плотины была тишина, глубь и тайна. Здесь на дне жил водяной, замышлявший разные каверзы против людей. Водяной был старый и не злой. Он больше замышлял, чем делал. Вернее совсем ничего не делал, но рассматривать его владения было страшновато. Так можно досмотреться до того, что вдруг и вправду увидишь водяного.
«Искупаться бы!» — подумал Федя.
И сразу день показался знойным. Под коленями и под мышками кожа липкая от пота. Федя поморщился и твердо сказал:
— Надо искупаться.
«А почему бы и вправду не искупаться? От мамы никаких запретов не было. Отец, выпроваживая на улицу, про купание ни слова не сказал. Правда, без спросу купаться ему запрещено, только ведь запрещали там, на старом месте, где было глубокое озеро и коварная, с омутами, речушка. Здесь, у запруды, в царстве водяного, купаться, конечно, нельзя, зато по другую сторону — река по песочку бежит. Глубиной река — воробью по колено. Значит, и вода теплая».