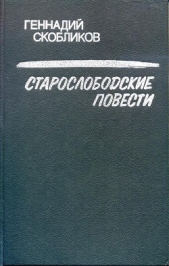Степкино детство

Степкино детство читать книгу онлайн
В 1935–1936 годах, уже в возрасте 55 лет, Исай Исаевич Мильчик начал писать свою первую повесть для детей. До этого И. И. Мильчик писал публицистические книги и статьи для взрослых. Основной его труд — автобиография под названием «За Николаевским шлагбаумом». «Степкино детство» — это первая часть книги, задуманной И. И. Мильчиком. В основу ее в какой-то степени положен автобиографический материал.
Автор хорошо знал эпоху 90-х годов прошлого столетия, хорошо знал обстановку и быт захолустной слободки на Волге, сам был свидетелем холерного бунта, испытал тяжелую жизнь рабочего подростка, вынужденного за гроши много часов подряд, до полного истощения физических и моральных сил, крутить колесо в механической мастерской, узнал, что такое каторжная тюрьма и сибирская ссылка. Обо всем этом он и хотел рассказать в своей повести. Во время Великой Октябрьской революции И. И. Мильчик — член Совета рабочих и солдатских депутатов Петрограда от Выборгской стороны. И. И. Мильчик прошел большой трудовой путь от токаря до заместителя директора одного из ленинградских машиностроительных заводов. В 1937 году в номере 1 журнала «Костер» были опубликованы главы из повести под названием «На речке Шайтанке». Над этими главами автор работал с С. Я. Маршаком и Л. К. Чуковской. Автору не удалось закончить книгу: в феврале 1938 года жизнь И. И. Мильчика трагически оборвалась. Рукопись в виде законченных и незаконченных глав, набросков, черновиков сохранилась у жены и сына И. И. Мильчика. По просьбе издательства писательница А. И. Любарская тщательно изучила все эти материалы и подготовила рукопись к изданию.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Степка уселся на лавку подальше от матери и начал придумывать, как бы ему на улицу удрать. Через окно не выбраться: мать у самого окна торчит. Через двор — без толку: калитка с утра на замке. Может, через сени на подволоку, а оттуда на крышу? А, может, мать просто не знает про вторник и про Домну? Да и откуда ей знать — возится день-деньской с ухватами, с горшками да с грязным бельем. Вот если рассказать ей она и пустит.
— Мам?
Молчание.
— Мам?
Ответа нет. Только лопатки шибче задвигались у матери на спине.
«Оглохла, что ли? — злится Степка. — Или отвечать не хочет? Осерчала, верно».
Степка подходит к самому корыту. Под ноги ему попадается коробочка, вышибленная у него из рук шлепком. Он поднимает ее и, зачерпнув из корыта мыльную пену, говорит:
— Мам, а ты знаешь, ведь сегодня в будке, у Ларивошки в будке, Домаха енгалычевская. И Ларивошка сегодня ни за что на речку не придет.
Васена молча отпихнула Степку локтем от корыта.
— Мам, а ты знаешь про то, что Митюнин Власка, бондаря Митюни Власка, с нашего двора Власка, сейчас на речке? И что Маринкин Суслик тоже на речке…
— Отстань! Знаю! — крикнула вдруг Васена.
Степка заморгал глазами на мать. Вот тебе раз! Не помогло, не пускает.
— А почему все-таки Митюня своего Власку, с нашего двора Власку, пускает, а ты нет? — говорит Степка тихим голосом.
— Перво-наперво не таращь на меня глаза: на мне узоров нет.
— Ну, а все-таки почему?
— А потому, что твоего бондаря зовут Митюней, а меня Васеной.
— Чиво?
— Сколько не «чивокай», все равно не пущу.
— А почему?
Степка спрашивал это уже своим голосом — грубоватым, с хрипотцой.
— А потому. Видел, прошлый раз Ларивошка дворы обходил? Слышал, что он наказывал? Сколько раз тебе повторять. Попадешь к нему в лапы — и пальцем не шевельну. Пропадай ты пропадом!
Пока мать говорила, Степка набрал в коробку мыльной пены и приладил соломинку. Он пустил из нее стайку цветных пузырей и сдул их матери на щеку.
— А я все равно убегу, — сказал он.
Васена потерла щеку о плечо, сложила вдвое лоскутное одеяло, выкрутила, потрясла его над корытом и ответила:
— А я тебя в горницу запру.
Спокойный голос и спокойные слова матери пуще шлепков взбесили Степку.
Он хлопнул себя в грудь растопыренной пятерней и крикнул:
— Так ты меня в горницу запрешь? Хорошо! Запри. А что с твоей горницей будет? Ты знаешь? Нет, ты знаешь?
Степка все хлопал себя ладонью по груди и ждал ответа. Мать молчала.
— Я ее зажгу, твою горницу! И сам сгорю, в пепел сгорю, как в запрошлом годе Рамзайкины дети сгорели!
Да вдруг пятками об пол как застучит:
— Пусти купаться, мамка, черт!
И коробку с мыльной пеной как швырнет в стенку!
Васена выпрямила согнутую спину, что-то хотела сказать, да, видно, раздумала. Схватила вдруг из корыта дедушкины стеганые исподники и ринулась с ними на Степку.
— Брысь от корыта, проклятник!
И размахнулась тяжелыми дедовыми штанами. А по Степке все-таки не угодила. Он ее повадку хорошо знал — что ни попадя хватать в руки. Миг — а он уже за столом. Поди-ка достань его! Себя только грязной пеной окатила, драчунья!
— Не попала, не попала, свою мать закопала, — шептал Степка, тараща на мать большущие глаза. — Все равно убегу, врешь, убегу, только на двор выйди!
А уйти-то она уйдет. Непременно уйдет. Хохлатенькая курочка у нее захворала. Сидит в чуланчике, воды не пьет и пшена не клюет. А не к курице — так белье на двор пойдет развешивать. Так ли, сяк ли, а врет, уйдет.
«Другим вот счастье, — думает Степка. — У других матери на подёнку уходят — полы мыть, белье стирать. А эта все дома торчит».
Он сердито оглядел горницу. Какие у ней тут еще дела? Печку истопила, стол выскоблила, посуда у ней еще с вечера вымыта. Только стирка одна и осталась.
А душно в горнице, будь она неладна. Дух кислый. Разомлел Степка на лавке. Нос у него даже вспотел. На потный нос пуще садятся мухи. За пазуху, анафемы, пробираются, в рот лезут. Ух, надоели!
От духоты, от мух, от кислого духа, от руготни с матерью сердится Степка на весь вольный свет.
«Почему же не зашли за мной Власка с Сусликом? — думает он, хлопая по столу мух. — Может, их тоже не пускают? Да нет, не должно. У Власки отец, Митюня, на работе, а матери, Матреши, он не боится. А у Суслика матка еще чем свет на ватагу подалась».
— Не зашли. Одни убежали, — нечаянно выговорил он вслух.
И оглянулся на мать. Нет, не слышала. Стирает.
А она слышала. Только досады-то у ней больше нет: выкричалась — и сердце вытрясла.
«То-то они вчера с Юркой шептались, — вертится у Степки в голове, — а он им всё гривенники серебряные показывал… Змеи, змеи…»
Степка вскочил с лавки и начал бегать по горнице, от стенки к стенке, как волк в яме.
«Эх, если б на улицу, — задал бы я им, изменникам. И форсунку ихнему задал бы…»
Этот Юрка Чик-Брик, да еще Куцый Гаврик — первые враги Степки. Куцый — хвастун и задира. А Юрка — барчук и зазнайка. Потому и кличка ему — Чик-Брик.
Юрка — господ Енгалычевых сынок — богатый-пребогатый. У них за речкой свой дом, отдельно стоит: низ каменный, верх деревянный, и крыльцо тоже каменное, прямо на улицу выходит. Вместо перил на крыльце львы лежат. Положили морды между вытянутых лап, скалят зубы на прохожих и таращат страшные глазища. Степка, когда был поменьше, боялся мимо этих львов бегать: думал, настоящие они, укусят. А они чугунные.
Большая полосатая муха поднялась со стола и жужжа полетела мимо Степки, долго кружилась вокруг полинялых дам и кавалеров на кухонной занавеске, облюбовала одного кавалера в чулках и башмаках с пряжками и села ему на шляпу.
«Вот такую же шляпу пирогом надевает на свой хохолок барин Енгалычев в царские дни, когда на парад едет, — вспомнил Степка Юркиного отца. — Эх, и едет же, бес! В перчатках белых, мундир в золотых кренделях, из-под шляпы седой хохолок торчит. А на козлах кучер Вахрушка восседает, — поддевка бархатная, без рукавов, и зеленое перо в шапочке».
Вахрушка говорил Митюниному Власке, будто бы барин Енгалычев после парада тайно советуется с самим губернатором. Только о чем — не знает Вахрушка. Обещался под дверью подслушать. А что советуется — это точно. У них на крыльце и дощечка медная привинчена и на ней написано: «Тайный советник Енгалычев».
А старая Сахариха говорит, будто он в Петербург к самому царю тайно ездит.
Кто его знает, кто он такой, а только все в слободке боятся старого Енгалычева. Встретят — шапку перед ним ломают, кланяются чуть не до земли: ведь поди знай, что он там тайно насоветует на человека! А он идет и не видит никого, как слепой. Это он от спеси. Зато уж за спиной называют его «Ваше высоко-ничего».
— Ваше высоко-ничего! — фыркнул Степка.
— Ты чего там мурмыкаешь про себя? — крикнула вдруг Васена. — Чем так торчать за столом, учи лучше грамоту. Совсем от ученья отбился. Сколько гривенников за тебя старой барышне Платоше передавали. А все без толку. Шаромыжник. Вот проучу тебя сейчас веником!
Степка покосился на веник — и ни слова матери; встал из-за стола, полез за божницу, достал оттуда обгрызенный карандаш, четвертку серой бумаги и опять уселся за стол.
— Аз, буки, веди, глаголь, добро… — забормотал Степка.
Азбуку Степка всю наизусть знал, до самой до ижицы. И склады читал. А вот на письме осекся: не дается да и все тут.
Степка помуслил карандаш, пошептал себе под нос: «Буки-аз-ба», — вывел на бумаге какую-то каракульку и бахнул, как из ружья: «Ба!»
Опять пошептал: «Веди-аз-ва», — помуслил карандаш, вывел другую каракульку и опять бахнул: «Ва!»
Дальше надо шептать «глаголь-аз» и кричать «га». А как оно пишется, это «га»? С крючком оно. А крючок где? Сверху ли, снизу ли?
«Пророк Наум, наставь на ум, пророк Наум, наставь на ум…» — бормочет про себя Степка и оглядывает потолок, бревенчатые стены, веревку, свисающую с потолка.